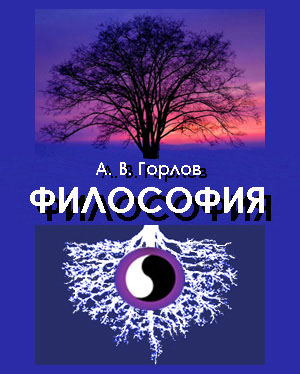
Введение
Лекция первая. ПРЕДМЕТ И ЗНАЧЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
Лекция вторая. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
Лекция третья. РАННЯЯ ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
Лекция четвёртая. КЛАССИЧЕСКАЯ И ПОЗДНЯЯ ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
Когда я спросил в университетской библиотеке, как обстоит дело с учебной литературой по философии, мне сказали, что прекрасно: только за последние годы изданы десятки учебников и учебных пособий. "Выходит, мне незачем разрабатывать собственный курс лекций, - подумал я. - Возьму какой-нибудь толковый современный вузовский учебник философии, на худой конец - не один, а два - три, и вот он - готовый материал для квалифицированного проведения лекционных и семинарских занятий". |
|||||
В современных учебниках при всем их пёстром многообразии философия преподносится удивительно однообразно и серо. |
Однако лёгкой работы с учебной литературой не получилось. Я не смог найти в готовом виде солидную основу для преподавания философии, ибо последняя при всём многообразии, пестроте посвящённых ей учебных книг преподносится учащимся удивительно однообразно и серо. Все эти книги в той или иной степени поражены одной и той же застарелой болезнью: их авторы, рассматривая философские проблемы, сплошь и рядом некритически воспроизводят штампы, которые сформировались ещё в середине прошлого века и даже раньше, показали себя с положительной стороны, но в наши дни оказались явно ущербными. Правда, в учебниках есть и новшества, но, как правило, весьма сомнительного содержания. На поверку многие из них - не более, чем ремейки давно отброшенных заблуждений. Вот и пришлось, засучив рукава, взяться за создание собственного учебника философии. Работа идёт не просто, ибо нередко напоминает собой ассенизацию Авгиевых конюшен. Не знаю, насколько убедительно выгляжу я в роли вузовского Геракла, героя-ассенизатора. Работая над учебником философии, могу без сомнений утверждать лишь одно: все мои усилия неизменно направлены на то, чтобы мой ученик, радуясь и грустя вместе со мной, понял, что такое философия, и научился грамотно судить о ней. Лекция первая 1. Система всеобщих законов как предмет философии |
||||
Философия появилась в глубокой древности, но жаркие споры о её предмете не затухают до сих пор. |
Философия появилась очень давно, и, казалось бы, за многие века, прошедшие с тех пор, круг её интереса не мог не превратиться в строго очерченное пространство. Увы, жаркие споры о предмете философии, вспыхнувшие ещё в глубокой древности, не затухают до сих пор. "Нельзя сказать, что в литературе по философии как области знания утвердилось однозначное определение предмета философии, даже в учебниках", - заявляет М. Б. Туровский. Ему вторит С. Р. Аблеев: "Представления о предмете философии весьма многочисленны и различны". "Может показаться странным, - обостряет тему К. Х. Момджян, - но именно вопрос - что такое философия? - является одной из наиболее спорных её проблем". |
||||
На первый взгляд, оснований для беспокойства нет. Энциклопедии, учебники и словари последних десятилетий довольно дружно определяют предмет философских исследований как совокупность (систему) наиболее общих (всеобщих) законов бытия и мышления. В примерах недостатка нет. Начнём с учебников и учебных пособий. По мнению Б. Н. Бессонова, "философия изучает общие связи и отношения, общие законы, которые действуют в природе, обществе и в человеческом мышлении. Философия изучает также внутренний мир человека, связи сознания и бытия, процесс и суть познавательной деятельности человека…" "Предметом философии, - пишет в том же духе, но более чётко В. Г. Горбачёв, - является всеобщее в системе "Человек - Мир" - предельные начала (основания), принципы, связи, свойства и законы всего сущего". П. В. Алексеев и А. В. Панин предпочли высказать эту мысль короче: "Предметом философии является всеобщее в системе "мир - человек"". Сходное представление о философии демонстрируют О. Г. Данильян и В. М. Тараненко: "Её предметом является мир в целом в своих наиболее общих закономерностях, рассматриваемый под углом зрения субъект-объектного отношения, иначе говоря, отношения "человек - мир"". Такая точка зрения господствует в учебной литературе, поэтому примеры можно множить и множить. Очень похоже говорят о предмете философии все более или менее современные словари и энциклопедии, причём не только отечественные, но и зарубежные. Например, изданные в 1989 году советский "Философский энциклопедический словарь" (ФЭС) и американский энциклопедический словарь Вебстера, несмотря на серьёзные идеологические разногласия между СССР и США, которые не устранила даже горбачёвская перестройка, трактуют философию практически одинаково, с трогательным единодушием: первый - как "учение об общих принципах бытия и познания, об отношении человека к миру" , а второй - как "the rational investigation of the truths and principles of being, knowledge, or conduct". Правда, второе из приведённых толкований явно (через слово "rational") сближает философию с наукой, а первое этого не делает, однако сближение философского познания с научным вовсе не чуждо советской теоретической мысли, - напротив, сразу же за одним, процитированным выше, определением философии ФЭС даёт и другое, согласно которому - знай наших! - философия есть не что иное, как "наука о всеобщих законах природы, общества и мышления". Ранее такой же двойной подход к определению философии был применён в БСЭ , а позднее, уже в 1993 году, - в "Современном словаре иностранных слов". Менее солидные, чем БСЭ и ФЭС, советские справочники, объясняя особенности философского познания мира, двойственности предпочитают однозначность: наука - и всё тут! Именно такое, сциентистское толкование философии типично для СССР, но с одной существенной оговоркой: наукой является лишь марксистская философия. Об этом чётко сказано в "Словаре иностранных слов" 1964 года издания: "Единственно подлинно научной философией является диалектический материализм - философская основа марксизма-ленинизма - могучее теоретическое оружие рабочего класса в борьбе за победу коммунизма". Сходная позиция изложена в партийном учебнике философии 1968 года: "Марксистско-ленинская философия, - утверждает один из авторов книги Д. И. Даниленко, - представляет собой общетеоретическую основу научного мировоззрения. Она изучает наиболее общие законы развития природы, общества и мышления и вырабатывает обобщенную систему взглядов на мир, давая подлинно научные ответы на вопросы, имеющие значение для любой области знания и практической деятельности". Далее следует оговорка: "Было бы, разумеется, большим заблуждением считать, что марксистская философия является "наукой наук" и стоит над всеми другими науками. Диалектический материализм учитывает и глубоко обобщает новейшие данные естественных наук и на этой основе обогащает и развивает свои законы, понятия, категории. …Сказанное о естественных науках в полной мере относится и к наукам, изучающим различные стороны общественной жизни. Исторические, экономические, правовые и другие науки раскрывают закономерности развития истории, экономических отношений, правовых форм и т.д. При этом каждая общественная наука, изучая закономерности, относящиеся к её области исследования, не может игнорировать наиболее общие законы развития общества в целом, т.е. те законы, которые изучает исторический материализм. Без знания этих общих законов нельзя научно объяснить взаимодействие различных сторон общественного процесса". Итак, согласно Даниленко, марксистская философия не является наукой наук, но именно она решает общенаучные вопросы, ибо частные науки в силу их принципиальной ограниченности на это не способны. Разрабатывая общенаучную методологию познания и создавая единую, междисциплинарную научную картину мира, философия должна не только опираться на частные науки, но и руководить ими. В таком случае - хочет того Даниленко или нет - её место не где-нибудь в их ряду, а выше - над ними. Это то место, которое может занимать только наука наук, объявлять каковой подлинно научную философию было бы, по справедливому утверждению самого Даниленко, "большим заблуждением"! |
|||||
Любой философ, видящий в системе всеобщих законов бытия и мышления предмет философии, обязан примерять к последней статус науки наук. |
Не один Даниленко - все советские философы пребывали в щекотливом положении под названием "и хочется, и колется": возглавлять все науки - это здорово, ибо все их успехи можно приписать себе, но отвечать за все их ошибки - очень скверно, ибо количество ошибок растёт, а их негативные последствия становятся всё серьёзней и серьёзней. Кто-то может вообразить, будто подобные терзания характерны лишь для марксистов. Отнюдь. Любой философ, видящий в системе всеобщих законов бытия и мышления предмет философии, - а это, как было показано выше, обычный современный взгляд! - обязан примерять к последней статус науки наук, и, следовательно, желать "порулить" всеми частными науками и в то же время не желать этого, ибо философия, будучи любовью к мудрости, явно не годится для этой руководящей роли. Выходит, предмет философии, как и прежде, остаётся одной из актуальнейших её проблем. 2. Современная философия и мудрость |
||||
Тот, кто не видит в термине "философия" чёткого ориентира при выяснении сферы философского интереса, легко уходит в сторону от этой сферы, теряет свойственную философии точку зрения. |
Как правило, говоря о философии, не забывают отметить, что в переводе с древнегреческого её название означает "любовь к мудрости". Эту очень важную информацию обычно дают как несущественную для современного человека, как занятный исторический факт - и только, а потому, не задерживаясь на ней, спешат перейти к нынешнему, "солидному" представлению о философии, в котором любовь к мудрости если и присутствует, то почти неприметно. Между тем термин "философия" появился совсем не случайно, и тот, кто не видит в нём чёткого ориентира при выяснении сферы философского интереса, легко уходит в сторону от этой сферы, теряет свойственную философии точку зрения. |
||||
В наше время даже философы не любят рассуждать о мудрости, а когда берутся, получается очень неуклюже. |
В наше время тема мудрого отношения к жизни кажется безвозвратно утратившей актуальность, интересной лишь старомодно мыслящим интеллигентам да историкам, что позволило советскому филологу, автору словаря русского языка Д. Н. Ушакову снабдить слово "мудрый" пометкой "книжное". Однако и в среде интеллектуалов-книжников жаркие дискуссии о мудрости давно затихли. Сейчас даже философы не уделяют ей серьёзного внимания. Об этом говорит, в частности, отсутствие соответствующей статьи в пятитомной "Философской энциклопедии" 1960 - 1970 годов. Такой же пробел - в подавляющем большинстве философских словарей. К примеру, обратившись к ФЭС, вы найдёте статьи "Знание", "Интеллект", "Опыт", "Ум", но не найдёте статью "Мудрость". Нет её и в "Новейшем философском словаре" 2008 года. В "политиздатовском" "Философском словаре" мудрость удостоилась отдельной статьи лишь накануне развала СССР. А вот ещё одно свидетельство пренебрежительного отношения к мудрости со стороны тех, кто обязан её любить: доктор философских наук М. Н. Росенко избавился от неё одним махом, заявив читателям учебника "Основы современной философии", что буквальному переводу термина "философия" следует предпочесть "более точный по смыслу" перевод "стремление к истине". Казалось бы, в заявлении Росенко нет существенной ошибки, ибо мудрость и истина очень тесно связаны, но беда в том, что это его суждение прекрасно сочетается с широко распространённой в наши дни ущербной точкой зрения, согласно которой овладеть истиной может любой, даже совсем не умудрённый опытом человек - достаточно проштудировать научные справочники. Как и Росенко, не любят говорить о мудрости В. Л. Калашников, С. А. Наумова и В. К. Шпомер. Отодвигая в сторону и мудрость, и истину, они утверждают, что термин "философия" означает "любовь к глубоким теоретическим рассуждениям". В отличие от Росенко и Калашникова со товарищи В. В. Миронов не стесняется слова "мудрость". Более того, о философии он написал так: "Всё её содержание пронизано мудростью, и она может быть определена через это понятие… Мудрость - её начало и её конец". В данной цитате слово "может" выглядит случайной оговоркой: ведь напрашивалось другое слово - "должна"! Увы, это не оговорка: не успела мудрость растроганно прослезиться, услышав лестный отзыв о своей чрезвычайно важной роли в философских размышлениях, как Миронов тут же окатил её холодным душем, поспешив объявить в духе господствующих ныне представлений, что не она, а "всеобщее в системе "человек" - "мир"" является предметом философии. И как же теперь прикажете понимать звонкие слова о том, что пронизывает всё содержание философии, от самого её начала до самого конца? А вот как: "хотя её стержень - мудрость, ведущим началом в философии … выступает рационалистическая - умозрительная - её сторона". Не пытайтесь достичь каких-либо философских глубин с помощью этой наспех сколоченной конструкции со стержнем и двигателем ("ведущим началом"), ибо сбита она лишь для того, чтобы, отвесив мудрости нижайший поклон, уйти от неё в сторону. Зачем? Да затем, чтобы было сподручней, проще, легче. И в самом деле: как только речь заходит о мудрости, язык Миронова становится неуклюжим, вымученно-искусственным. "Важнейшим признаком мудрости", говорит он, "выступает особое отношение человека к миру, связанное с его восприятием как особого рода целостности, в которой человек занимает своё особое место". Сказано невнятно, тяжеловесно, но с претензией на глубокомыслие: трижды применённое слово "особый" придаёт пустой фразе характер намёка на знание такой сенсационно-эксклюзивной информации, которую пока - видимо, в связи с особыми обстоятельствами - не следует разглашать. Вдумчивого анализа мудрости у Миронова нет, а поскольку её определений накопилось "не меньше, чем определений философии", потребность в таком анализе давно назрела. Положение усугубляется тем, что иногда в одном и том же определении умудряются одарить мудрость целым букетом взаимоисключающих свойств. Например, так: "В мудрости присутствуют активность мифа, эмоциональность и многовариантность художественного образа, точность научного, рассудочного знания, антиномичность и цельность разума". |
||||
Обычный способ ухода от точного определения мудрости - ссылки на существенно разное её понимание на разных этапах истории. |
Обычным способом уйти от точного определения мудрости стали ссылки на существенно разное её понимание на разных этапах истории. "В древности идеал мудреца - созерцательность, "зритель на стадионе" (где другие состязаются или торгуют). Иное понимание мудрости возникает в христианстве вместе с идеей "спасения", личного и общественного совершенствования; мудрец здесь - учитель жизни, её преобразователь". Шаткое, несвязное представление о мудрости ведёт к столь же несвязному представлению о философии: "Философия несёт в себе нечто от науки - способность воспринимать критическую аргументацию, системный характер знания, наличие описательного, объяснительного и предсказательного потенциала. Но философия близка и к религии своим стремлением прикоснуться к трансцендентному, запредельному, недоступному для человека. Философия несёт в себе большой эмоциональный заряд, она рассчитана на индивидуальное восприятие и тем самым близка искусству. Философ также часто выступает в роли мудреца, учителя жизни. Философы, начиная с Платона, не чуждаются причастности к политике, к планам перестройки, переделки существующего, не отказываются от возможности влиять на массовое сознание, сближаясь тем самым с идеологией. Ускользающее от анализа единство философских учений заставило М. Н. Росенко вообразить, будто общего для них предмета в истории никогда не было, ибо содержание этого предмета на всём её протяжении лишь "формировалось … в зависимости от уровня развития общества и данных научных исследований". Только сейчас, согласно Росенко, процесс формирования, наконец-то, закончился. И что же получилось? "Предметом современной философии является обоснование сущности бытия и познания в их развитии, закономерности эволюции мира и человека в нём". В общем, предметом философии оказалось то, что никак не назовёшь исключительно философской сферой интереса. Бедная философия: веками мучительно формировала свой собственный предмет, да так и не смогла этого сделать! "Мы должны признать, - мрачно констатирует А. А. Золкин, - что внутреннее единство философской науки остаётся трудной и пока нерешённой проблемой…" Если Золкина это обстоятельство угнетает, то авторов учебного пособия под редакцией В. Л. Калашникова - нисколько. Отметив, что кое-кто из философов настаивает на принципиальной неопределимости границ философского интереса, они отнеслись к этому тревожному факту чрезвычайно легкомысленно: "Большинство философов более оптимистично смотрят на возможность определения философии, так как сам предмет и сущностные подходы к нему очень разнообразны". |
||||
То, что в философии до сих пор позволительны сущностно разнообразные подходы к определению её предмета, может внушать оптимизм только философствующим проходимцам. |
То, что в философии до сих пор позволительны сущностно разнообразные подходы к определению её предмета, может внушать оптимизм только любителям ловить рыбку в мутной воде. И вот уже в духе этих философствующих проходимцев многостраничное учебное пособие по философии из Ростова-на-Дону вбивает в головы студентов, будто "сегодня возможны разные определения предмета философии", будто дело зависит лишь "от того, на каких позициях находится сам философ, желающий очертить этот предмет" . Не нужно впадать в отчаяние или пускаться в теоретические авантюры, обнаружив пёстрый, дезориентирующий разнобой при определении философии! Навести здесь хотя бы элементарный порядок вовсе не так сложно, как кажется на первых порах, ибо многие посвященные данной теме высказывания в силу своей небрежности и легкомысленности не более, чем шелуха, сухая отпадающая оболочка. Попробуем удалить эту мёртвую корку и выделить живое ядро. 3. Что такое мудрость? |
||||
Любой философ обязан воспринимать мудрость не иначе, как жизненную необходимость. |
Когда предметом философии, резонно исходя из её названия, объявляют мудрость, очень часто забывают уточнить, что любой философ обязан воспринимать последнюю не иначе, как жизненную необходимость. В самом деле, можно ли любить мудрость, не испытывая страстного желания обладать ею, представляя, что без неё вполне можно обойтись? Конечно, нет! Так что же такое мудрость? И почему философия настаивает на кровной заинтересованности в ней, требует не мыслить без неё самой жизни? "Мудрость - высшая духовная потенция, синтезирующая все виды познания и активного отношения человека к миру", - утверждает "политиздатовский" философский словарь 1991 года. Поскольку познание не может быть пассивным, а человеческая активность не обходится без познания, данное определение следовало сделать короче: "…синтезирующая все виды деятельности". Внеся такую поправку, мы получаем хорошую отправную точку для размышлений о мудрости. |
||||
Мудрость - это способность синтезировать все формы как умственной, так и физической деятельности, известные человечеству. |
Итак, мудрость - это способность синтезировать, т.е. сводить к неразрывному единству, все формы как умственной, так и физической деятельности, известные человечеству. У Ю. М. Хрусталёва несколько иное понимание мудрости. Это, считает он, уже осуществлённый синтез, "высшая степень упорядоченности мыслей и чувств". Здесь сразу же вспоминается Платон: "Всего справедливее было бы назвать самой большой мудростью прекраснейшую и величайшую гармонию" (в более точном переводе - "прекраснейшую и величайшую согласованность"). Однако рассматривать мудрость как состоявшийся синтез психических проявлений личности значит превращать мудреца - человека, сделавшего своё бытие максимально насыщенным, напряжённым, - в абсолютно безмятежное, лишившееся каких бы то ни было эмоций и размышлений существо. Мудрость, если быть точным, - не равновесие, не согласованность, она лишь "призвана уравновесить сложные взаимоотношения человека с миром, привести в согласие знания и действия". А. Ф. Лосев подчёркивает, что и в платоновских текстах мудрость рисуется, как правило, не статично, безжизненно, а "художественно-технически", "почти исключительно практически". "Эта мудрость настолько жизненна, что иной раз мыслится у Платона и как принцип порождения самой жизни…" "Таким образом, - резюмирует Лосев, - если под мудростью понимать некоторого рода углубленное знание жизни, которое выражало бы собою внутреннюю и самодовлеющую жизнь или хотя бы настроенность человека, то такого значения слово sophia у Платона почти нигде не имеет. Sophia у Платона - это практическое умение и сноровка решительно во всех делах, прежде всего материальных, в практической жизни и ремесле, а затем и во всяких делах внутренних, относящихся к душе человека в целом или - что довольно редко - морали". Практическое понимание мудрости, отмечает Лосев, является не только платоновским, но и общегреческим. Действительно, если помимо Платона взять, например, его учителя Сократа, то мудрость снова сразу же предстанет в ярко выраженном практическом обличии. По свидетельству Ксенофонта, Сократ говорил, что "прекрасные и хорошие поступки совершают только мудрые, а немудрые не могут и, даже если пытаются совершить, впадают в ошибку. А так как справедливые и вообще все прекрасные и хорошие поступки основаны на добродетели, то из этого следует, что и справедливость и всякая другая добродетель есть мудрость". А вот у Аристотеля есть суждения, которые вызывают сомнения в общегреческом характере практического понимания мудрости. "…Мудрость, - утверждает он в "Никомаховой этике", - есть знание и интуиция наиболее ценных по своей природе вещей. Поэтому Анаксагора, Фалеса и им подобных называют мудрыми, но не умными, видя, что они игнорируют собственную выгоду, и говорят, что они знают нечто исключительное, изумительное, трудное и божественное, но бесполезное, ибо они ищут не человеческих благ". Тему "бесполезности" мудрой жизни Аристотель затронул и в другом своём сочинении - "Политике". Здесь он вспомнил о "проявлении смекалки в искусстве обогащения, которое приписывают Фалесу из-за его мудрости, тогда как на самом деле оно имеет универсальный смысл": "Рассказывают, что когда Фалеса, по причине его бедности, укоряли в бесполезности философии, то он, смекнув по наблюдению звёзд о будущем [богатом] урожае маслин, ещё зимой - благо у него было немного денег - раздал их в задаток за все маслодавильни в Милете и на Хиосе. Нанял он их за бесценок, поскольку никто не давал больше, а когда пришла пора и спрос на них внезапно возрос, то стал отдавать их внаём по своему усмотрению и, собрав много денег, показал, что философы при желании легко могут разбогатеть, да только это не то, о чём они заботятся". |
||||
Мудрость есть способность человека преодолевать любую личную трудность оптимальным для общества образом, или способность личности действовать идеально. |
Но о чём же заботятся мудрецы, если выгода им не нужна? О гармонии, согласованности всех своих движений - и духовных, и материальных. Мудрость есть способность человека преодолевать любую личную трудность оптимальным для общества образом, или способность личности действовать идеально. Тот, кто нацелен на достижение выгоды, т.е. собственного блага в ущерб кому-то ещё, такой способностью не обладает, ибо, выгадывая в одном, обязательно проигрывает в другом, и, следовательно, беспроигрышного, идеального решения проблемы не получает. В мудрой заботе нет места для частного предприятия, т.е. погони за односторонней пользой, наживой. С древнейших времён "понятие мудрости несло в себе возвышенный, не будничный смысл: мудрость противопоставлялась более обыденным разумению и рассудительности как стремление к совершенно особому интеллектуальному постижению мира, основанному на бескорыстном служении истине" . Об этом прекрасно сказано в платоновском "Теэтете": "…Не так-то легко убедить большинство, что вовсе не по тем причинам, по каким оно считает нужным избегать подлости и стремиться к добродетели, следует об одном радеть, а о другом - нет, чтобы казаться не дурным, а добрым человеком. Это, как говорится, бабушкины сказки. Истина же гласит так: бог никоим образом не бывает несправедлив, напротив, он как нельзя более справедлив, и ни у кого из нас нет иного способа уподобиться ему, нежели стать как можно более справедливым. Вот здесь-то и проявляются истинные возможности человека, а также ничтожество его и бессилие. Ибо знание этого есть мудрость и подлинная добродетель, а незнание - невежество и явное зло". "Платон противопоставляет подлинную мудрость … тем "кажущимся мудростям", которые основаны в гражданских делах на суете, а в искусствах - на корысти", - констатирует Лосев. Однако отсутствие у мудреца частной предприимчивости вовсе не свидетельствует о его пассивности. Внутренне мудрец всегда пребывает в предельном напряжении духа, но и внешне он может быть чрезвычайно активным, энергичным, деятельным - лишь бы был хоть какой-то, пусть минимальный, простор для гармонизации материальной жизни! Увы, очень часто такого простора нет, и в этом случае мудрец становится замкнутым, внешне пассивным, безынициативным. Отсюда - представление о практической бесполезности мудрости, о её зацикленности на чисто духовных проблемах. |
||||
Быть мудрым и быть субъектом - одно и то же, вот почему установление путей достижения мудрости, - а именно это и только это должна делать философия, - даёт не объективное, а субъективное знание. |
Но какие бы проблемы ни решал мудрец, главная цель всех его занятий всегда одна и та же: сохранение себя в качестве субъекта - источника самостоятельной, свободной активности, идеального деятеля, творца своей жизни. Быть мудрым и быть субъектом - одно и то же, вот почему установление путей достижения мудрости, - а именно это и только это должна делать философия, - даёт не объективное, а субъективное знание, т.е. знание, необходимое субъекту, источнику самостоятельной активности, свободно творящему свой собственный мир деятелю. 4. Философия и наука: единство или борьба? |
||||
С тем, что философия есть субъективное знание, до сих пор согласны далеко не все. Особенно активно отрицают субъективность философии те, кто так или иначе сводят её к науке - объективному теоретическому знанию. |
С тем, что философия есть субъективное знание, а объект интересует её лишь в качестве пластичного материала, средства для проявления мудрости, способности к идеальному творчеству, до сих пор согласны далеко не все. Особенно активно отрицают субъективность философии те, кто так или иначе сводят её к науке - объективному теоретическому знанию. "Философия - это наука", - категорично заявляет А. Г. Спиркин. "В философии, как и в любой науке, - объясняет он свою позицию, - люди ошибаются, заблуждаются, выдвигают гипотезы, которые могут оказаться несостоятельными, и т.п." К Спиркину решительно присоединяется Б. Н. Бессонов: "…Очевидно, что философия стремится к знанию в строгом, т.е. научном смысле этого слова. Она принимает все требования, предъявляемые к научному знанию: общеобязательность, определённость, сведение к законным основаниям всех допущений. Таким образом, поскольку философия пользуется логическими понятиями, прибегает к доказательствам и опровержениям, формулирует законы, она выступает как наука…" Кажется, будто Спиркин и Бессонов настолько убеждены в научности философии, что переубедить их совершенно невозможно - будут стоять на своём непоколебимо, как скала. Но что это? - скала оказалась кучей песка. Едва заявив о научном характере философского знания и приведя соответствующие доводы, Спиркин поспешил скорректировать свою позицию: "Но всё это совсем не значит, что философия есть одна из наук в ряду других наук. …У философии предмет иной - она есть наука о всеобщем, ни одна наука не занимается этим". В общем, философия - наука наук. Подход не новый, давно (ещё в ХIХ веке) показавший свою несостоятельность. Даже советская власть, фактически поддерживая (в интересах марксистской философии) эту ущербную точку зрения, принять её открыто постеснялась. Но то - когда было! А теперь-то чего стесняться? - Демократия! Дальше - больше: философия, утверждает Спиркин, существует "не только … в виде специально философских сочинений, но и в совсем не похожей на науку форме, например в виде творений писателей, когда они через художественные образы, через образную ткань искусства выражают порой гениальные собственно философские воззрения". Словом, от категоричного заявления о научности философии очень быстро остались рожки да ножки. Ещё стремительней и головокружительней развиваются события в курсе лекций Бессонова. Только что он настаивал на научном характере философских исследований - и вот уже столь же горячо утверждает прямо противоположное: "И всё же бесспорно: философия не удовлетворяется ролью науки… В отличие от науки подлинная философия персонифицирована, в ней личность всегда играет важнейшую роль. Такого кульбита следовало ожидать, ибо, перегнув палку в одну сторону, легко перегнуть её и в другую. В самом деле, утверждая, что философия "принимает все требования, предъявляемые к научному знанию", в том числе и требование общеобязательности, Бессонов явно увлёкся. Чтобы осадить его, дадим слово авторитетному учёному В. И. Вернадскому: "Есть одно коренное явление, которое определяет научную мысль и отличает научные результаты и научные заключения ясно и просто от утверждений философии и религии, - это общеобязательность и бесспорность правильно сделанных научных выводов, научных утверждений, понятий, заключений". Казалось бы, от этого утверждения легко отмахнуться: известно ведь, что не только учёный, но и философ стремится к общеобязательности и бесспорности своих выводов. Однако, с научной точки зрения, Вернадский никакой ошибки не совершил, ибо то, что общеобязательно и бесспорно для философа, отнюдь не является таковым и для учёного. В чём тут дело? В отличие от науки, объясняет известный её исследователь Э. Агацци, философия рассматривает мир "не через эмпирический материал как таковой, а через феноменологическую очевидность, которая своей точкой отсчёта имеет не содержание некоторого интерсубъективного наблюдения, а содержание живого переживания". |
||||
Приписывая философии научность, следует избегать категоричности. В противном случае неизбежно попадёшь в глупое положение. |
На примере Спиркина и Бессонова хорошо видно, что, приписывая философии научность, следует избегать категоричности. В противном случае неизбежно попадёшь в глупое положение, ибо нет ни одной философской концепции, которая не выходила бы за рамки науки. А не обстоит ли дело так, что философия в сущности, в принципе несовместима с научным знанием, является его абсолютной противоположностью? Н. А. Бердяев отвечает на этот вопрос утвердительно. Философию он справедливо связывает со свободным творчеством, это, с его точки зрения, - "искусство познания в свободе через творчество идей, противящихся мировой данности и необходимости и проникающих в запредельную сущность мира". "В философском познании рвётся к свободе творческая интуиция", - подчёркивает Бердяев. Напротив, наука ассоциируется у него с навязанной человеку необходимостью: "По специфической своей сущности наука есть реакция самосохранения человека, потерянного в тёмном лесу мировой жизни. Чтобы жить и развиваться, должен человек познавательно ориентироваться в мировой данности, со всех сторон на него наступающей. Для этой охраняющей его ориентировки человек должен привести себя в соответствие с мировой данностью, с окружающей его мировой необходимостью. Наука и есть усовершенствованное орудие приспособления к данному миру, к навязанной необходимости. Наука есть познание необходимости через приспособление к мировой данности и познание из необходимости". "Подлежит ли интуиция философии суду научному?" - вопрошает Бердяев и сам же даёт ответ: "Это значило бы обосновывать и оправдывать свободу - необходимостью, творчество - приспособлением, безграничную сущность мира - ограниченным его состоянием. Это искание безопасного убежища в принудительности дискурсивного мышления, в необходимой твёрдости науки обозначает иссякание творческого дерзновения в познании". В 1989 году, накануне развала СССР, в "Философских науках" появилась статья А. Л. Никифорова, в которой автор занял позицию, схожую с бердяевской: "Философия никогда не была, не является и, надеюсь, никогда не будет наукой (это относится и к марксистской философии)". В отличие от Бердяева, тщательно прятавшего болезненную склонность к самолюбованию за кружевами патетических тирад о свободном творчестве, Никифоров с умиляющей наивностью выставил присущий ему эгоизм напоказ: "…Каждый философ основную свою задачу должен видеть в том, чтобы ясно выразить своё личное мировоззрение, и организация философских исследований должна быть подчинена реализации именно этой цели. Не повторение известных тривиальностей, не поиск общезначимых истин, а формирование и выражение своего личного взгляда на мир, своего личного отношения к миру - вот высший долг философа". Короче: я буду формировать и выражать своё мировоззрение, а вы (окружающие) должны создавать для этого условия, в частности публиковать моё мнение по интересующим меня вопросам в философских журналах. |
||||
Отношение философии к науке до сих пор остаётся открытым вопросом. |
Точка зрения Никифорова вызвала дискуссию: на страницах нескольких номеров "Философских наук" были размещены разнообразные отклики на его статью. Как и следовало ожидать, подавляющее большинство участников этой дискуссии благоразумно отмежевалось и от сциентистского отождествления, и от антисциентистского противопоставления философской и научной деятельности. Но вопрос о том, в чём именно сходятся, а в чём расходятся друг с другом эти виды деятельности, остался открытым. Он пребывает в таком состоянии и поныне, что видно не только по Спиркину и Бессонову. К примеру, явно "плавает" при рассмотрении данной темы В. Д. Губин: сначала он заявляет, что философия - "это древнейшая наука", а потом - что она "не является совокупностью знаний, подобно науке". По Губину, науку и философию следует различать так: учёный передаёт знания, а философ - понимание. При этом понимание трактуется чрезвычайно расплывчато, туманно: это - "существовательная сторона содержания знания", "понять - значит найти свою уникальную позицию…" При такой туманности объяснений тема не могла не обрести откровенно мистический характер: "Наука имеет дело с проблемами, а философия - с тайнами". О. Г. Данильян и В. М. Тараненко пытаются объяснить особенности философского и научного знания, используя понятие рефлексии: "Если наука является формой познания объективных, независящих от деятельности человека, инвариантных к ней структур материального мира, т.е. направлена на познание внешнего относительно человека мира, то философия является формой рефлексии человека и направлена на изучение внутреннего опыта развития его духовности. Рефлексия - специфическое явление в сфере духовного освоения человеком мира, которое не совпадает с познанием. Предмет рефлексии - отношение внутреннего мира к внешнему". Это объяснение имеет искусственный, надуманный характер, ибо то, что наука не может изучать человека, а рефлексия несовместима с познанием вообще и научным в частности, - всего лишь голословные утверждения, противоречащие фактическому положению вещей. Сложность вопроса о соотношении философии и науки заставила С. Р. Аблеева уйти от его серьёзного обсуждения, ограничившись констатацией того общеизвестного факта, что сциентистский подход "не всегда подходит для описания особого явления духовной культуры человечества, именуемого философией". "…Мы не можем дать однозначный ответ на вопрос, является ли философия наукой", - вынуждена заявить Е. Е. Ермакова. По её мнению, "философия не противоположна науке, но и несводима к ней". 5. Концепции "отпочкования" и "предметного самоопределения" |
||||
Грамотное решение вопроса об отношении философии и науки невозможно без обращения к их истории. |
Грамотное решение вопроса об отношении философии и науки невозможно без обращения к их истории. В исторической науке господствует представление о том, что наука появилась лишь в новое время, "отпочковавшись" от философии, первоначально представлявшей собой всё теоретическое знание без остатка. "…История греческой философии, - пишет об этом В. Виндельбанд, - есть история зарождения науки; в этом её глубочайший смысл и её непреходящее значение. Медленно отрешается стремление к познанию от той общей основы, с которой оно было первоначально связано; затем оно сознаёт само себя, высказывается гордо и надменно и достигает наконец своего завершения, образовав понятие науки с полной ясностью и во всём его объёме. Вся история греческой мысли … составляет одно великое типическое развитие, темой которого служит наука". Видно, что Виндельбанд относится к философии чрезвычайно односторонне и пренебрежительно: с его точки зрения, она представляет теоретический интерес не более как зародыш науки; рождение последней лишает философию права на дальнейшее существование. "Философия подобна королю Лиру, который роздал своим детям всё своё имущество и затем должен был примириться с тем, что его, как нищего, выбросили на улицу". В наше время, считает Виндельбанд, философия может выступать только в роли теории научного познания. П. В. Алексеев и А. В. Панин, возмущённые пренебрежением к философскому знанию со стороны таких представителей концепции "отпочкования", как Виндельбанд, вообразили, что вся эта теория никуда не годится, и разработали альтернативу - концепцию "предметного самоопределения философии". Вот суть этой альтернативы в изложении её авторов: "Предмет философии не "распочковывался", предметы естественных наук не порождались им. Частные науки и сама философия выделились, обретя свой предмет, из совокупного преднаучного знания…". При внимательном рассмотрении концепция "предметного самоопределения", внешне весьма респектабельная, предстаёт как нагромождение теоретической несуразицы. Приведём яркий пример. ""Староантичное" … понимание философии, - пишут Алексеев и Панин, - представляло в сущности вовсе не философию в близком к нам значении. Это исторически первое понятие философии было тождественно научному знанию вообще, его целесообразно квалифицировать как "протознание" ("пранаука", "преднаука"). Предмет "протознания" был тогда интегрированным (вернее - нерасчленённым или слаборасчленённым) предметом всех наук, т.е. это была вся действительность. Именно из этого "протознания" (а не из философии) и выделялись отдельные науки". Легко показать, что содержание этой цитаты - набор нелепых сенсаций. Вот те раз: в античное время под философией понимали "вовсе не философию", и, стало быть, античные философы - не философы, а самозванцы. Вот те два: "понятие философии было тождественно научному знанию", т.е., согласно Алексееву и Панину, одно-единственное античное понятие - понятие философии - представляло собой всё тогдашнее научное знание. Если же предположить, что имеет место оговорка и под выражением "понятие философии" подразумевается философия, - а, видимо, так оно и есть, - то получается не менее странно: античная философия - не философия, а наука, и античные философы - не философы, а учёные. Вот те три: научное знание вообще есть преднаука, т.е. наука тождественна собственным зачаткам (Это всё равно, что на вопрос "Ты вообще кто?" ответить "Я вообще есть пред-я".). Так о чём же речь: о науке или преднауке? Похоже, о преднауке (зачаточном научном знании). Тогда, по Алексееву и Панину, сразу из этих зачатков, без появления науки как таковой (науки вообще), выделяются виды науки, что, с точки зрения и диалектики, и простого здравого смысла, совершенно нелепо. Попутно отметим языковые ошибки. Во-первых, термин "протознание" ("предзнание") в данном контексте явно неуместен, ибо речь идёт о зачатках только научного знания, а не знания вообще. Во-вторых, причастие "интегрированный" вовсе не означает "нерасчленённый или слаборасчленённый", в силу чего вместо слова "верней" в приведённой цитате следовало употребить "пардон" или что-то в этом роде. Языковой ошибкой является и применение термина "староантичный": речь шла просто об античности, зачем же приставка "старо-"? |
||||
Концепция "предметного самоопределения философии" Алексеева и Панина сводится к утверждению, что сначала была наука вообще, а затем из неё выделились философия (наука о всеобщем) и частные науки. |
Если из концепции Алексеева и Панина убрать всю несуразицу, которую они старательно, любовно нагородили, то получится очень простая идея: сначала была наука вообще, а затем из неё выделились философия (наука о всеобщем) и частные науки. Но ведь это вывернутая наизнанку концепция "отпочкования"! В самом деле, там наука выделилась из философии, а здесь, в концепции "предметного самоопределения", философия выделилась из науки. Чем же лучше позиция Алексеева и Панина? Рассмотрим те преимущества, которые, с точки зрения авторов, имеет созданная ими теория. 1. "Концепция "распочкования" рисует картину формирования философии (появления у неё предмета), в которой исторический путь философии оказывается принципиально иным, нежели любой другой науки. На самом деле генезис философии как науки не отличался в принципе, в главном от того пути, по которому шли к своей автономии частные науки". Если философия - одна из наук, то её путь действительно не может существенно отличаться от пути любой другой науки. Но философия, как было показано выше, вырабатывает не объективное (научное), а субъективное (ненаучное) знание, поэтому её история и история науки - принципиально разные вещи. Это важное обстоятельство учитывает концепция "отпочкования", даже в её виндельбандовской версии, а вот концепция "самоопределения" просто-напросто игнорирует. Кроме того, обратим внимание на то, что Алексеев и Панин отождествляют формирование философии с появлением у неё предмета. Возможно, такое отождествление корректно, но тогда явно некорректно заявлять, что формирование философии - это её исторический путь, ибо пока нет предмета философских исследований, пока он только появляется, нет, очевидно, и самой философии, и её истории. Это смешивание зачатков предмета и самого предмета, предыстории и истории характерно для Алексеева и Панина. Увы, не только для них! 2. "Концепция "распочкования" приводит к выводу об "исключительности" философии как по отношению к другим наукам, так и по отношению к собственному содержанию. В последнем случае имеются в виду заявления сторонников данной концепции, будто в процессе исторического развития философия "исключилась" из науки вообще и перестала существовать. … За философией отрицается способность самостоятельно обнаружить свой предмет исследования. Философия якобы получает его из рук частного знания как результат процесса "предметной расчистки", как итог его (а не самой философии) работы". В приведённой выше цитате из книги Виндельбанда ясно сказано, что для него история греческой философии есть "история зарождения науки", а не видов науки. Следовательно, с его точки зрения, эта история есть корень, а история науки и частных научных дисциплин - ствол и ветви древа теоретического познания. Виндельбандовский образ древа вполне логичен и совершенно не соответствует той злой карикатуре, в которую превратили его Алексеев и Панин со ссылкой на неких сторонников концепции "распочкования". Конечно, эта концепция, как и любая другая солидная теория, имеет глупых сторонников, но стоит ли умным людям перед лицом умного соперника спорить не с ним, а с подпевающими ему дураками? 3. "Концепция "распочкования" навязывает представление, будто философия, порождавшая в прошлом частные науки, и на сей день есть "наука наук", поскольку ведь нельзя искусственно положить конец "распочкования"; философия якобы и сейчас, вследствие естественного, закономерного процесса распочкования, заключает в себе значительное число будущих наук. Согласно же концепции "предметного самоопределения философии", в предмете научной философии никогда не содержались и не могут содержаться объективные предметы каких-то нефилософских наук, а современная философия не должна брать на себя задачу некоей "науки наук"". Вернёмся к Виндельбанду - одному из самых влиятельных сторонников концепции "отпочкования". Нет у него никаких заявлений о том, что философия - наука наук! Зато кое-что в этом духе есть у Алексеева и Панина. "Методы научного познания, - пишут они, - можно подразделить на три группы: специальные, общенаучные, универсальные". Поскольку объективной основой последних "выступают общефилософские закономерности", ясно, что почётное и эксклюзивное право разрабатывать универсальную методологию научного познания принадлежит философии. А раз так, последняя должна господствовать в мире науки, занимать в нём командные высоты, т.е. выступать в качестве науки наук. Проведённый нами анализ показал, что предпочтительней не концепция "предметного самоопределения философии", а концепция "отпочкования". Хотя последняя в нынешнем её состоянии далека от безупречности, в ней пусть и грубо, односторонне, но всё же схвачена принципиальная несовместимость философии и науки - факт, который не признают Алексеев и Панин. С их точки зрения, "философия есть наука, вид научного знания". Правда, уточняют они, такое утверждение справедливо лишь отчасти, ибо "философия представляет собой специфический вид познавательной деятельности, не совпадающий полностью с наукой", однако эта оговорка не спасает Алексеева и Панина от ошибки: в действительности отсутствует как полное, так и частичное совпадение философского и научного знания. 6. Синтез философии и науки Мы отмечали, что обычно предметом философии называют всеобщие законы бытия и мышления. Они действительно интересуют философию, но лишь в той мере, в какой позволяют приблизиться к мудрости, т.е. развивают у человека субъективные качества - качества свободного деятеля. Что касается науки, то она рассматривает эти же всеобщие законы существенно иначе: с точки зрения совершенствования объекта, т.е. того, что противостоит субъекту, ограничивает его свободу. |
||||
Философия и наука интересуются одним и тем же, но противоположным образом. Поэтому объединить их трудно. |
Итак, философия и наука интересуются одним и тем же, но противоположным образом. Следовательно, несмотря на определённое единство их предмета, смешивать их ни в коем случае нельзя. Но, с другой стороны, наличие в теоретической сфере двух противоположных, взаимоисключающих способов познания, каковыми являются философия и наука, - ситуация, которая явно мешает теоретическому осмыслению мира. Вот почему современные теоретики стремятся объединять философское исследование с научным и наоборот - научное с философским. Однако объединить философию и науку вовсе не так просто, как представляют себе многие философы и учёные. Проблема в том, что нужно получить синтез - слияние противоположностей. В противном случае неизбежен распад, возвращающий к исходному состоянию непримиримой борьбы. В советское время считалось, что эта проблема уже решена - в рамках марксистской философии. Что касается диалектического материализма, то он действительно представляет собой результат синтеза философии и науки. Но даже создатель этого материализма К. Маркс небезупречен как теоретик, тем более - его последователи. На деле марксисты предпочитают работать либо в рамках философии, либо в рамках науки, а свою приверженность диалектико-материалистическому стилю мышления проявляют, как правило, лишь на словах. |
||||
Адекватное исследование субъект-объектного отношения доступно лишь диалектическому материализму, ибо последний представляет собой не философию и не науку, а философскую науку, или научную философию. |
Шараханья от отождествления к противопоставлению и обратно при рассмотрении отношения философии и науки характерны не только для марксистов. В той или иной степени этим грешат многие современные теоретики. Пора уже стать серьёзней, вдумчивей и увидеть, что философия может исследовать только субъект, наука - только объект, а адекватное исследование субъект-объектного отношения доступно лишь диалектическому материализму, ибо последний представляет собой не философию и не науку, а философскую науку, или научную философию. Лекция вторая 1. Где же старт? |
||||
Отсутствие единства в толковании философии порождает разноголосицу и при описании её старта. |
Отсутствие у современных теоретиков единства в толковании философии порождает разноголосицу и при описании её старта, т.е. исходного появления, причём эта разноголосица затрагивает как время, так и пространство. До сих пор в ходу экстравагантная точка зрения, согласно которой человек и философствование - ровесники. Её можно встретить даже в учебниках. Например, автор одного из них Л. Е. Балашов уверяет студентов, будто люди философствуют "с тех пор, как начали говорить". А вот мнение В. Д. Губина: "Люди, для того, чтобы быть людьми, должны философствовать". Судя по всему, Губин, как и Балашов, не мыслит человеческого бытия без философских размышлений. |
||||
Характерное для культурологов представление о том, что человек и философствование - ровесники, несостоятельно, ибо точно установлено, что у общинников отсутствует необходимое для философа абстрактное мышление. |
Кто-то скажет: подобные утверждения не заслуживают даже упоминания при серьёзном разговоре о возникновении философии, ибо известно, что для неё необходимо мышление, которое в масштабах истории человечества появилось совсем недавно. В общинную - первую и самую длительную - эпоху социальной жизни оно напрочь отсутствовало. Однако за скромными фигурами Балашова и Губина маячит влиятельная группа современных теоретиков, главным образом культурологов, принципиально отрицающих какое бы то ни было интеллектуальное превосходство цивилизованного человека над дикарём-общинником. "…Мы предпочитаем оперировать с разрозненными кусками, если даже и не с "мелочью", - пишет, например, широко известный культуролог-структуралист К. Леви-Строс, - тогда как туземец - это логический скопидом: без передышки связывает нити, неутомимо переплетая ими все аспекты реальности, будь то физические, социальные или ментальные. Мы спекулируем нашими идеями, а он делает из них сокровище. Неприрученная мысль проводит в жизнь философию конечного". И тем не менее, несмотря на популярность таких теоретиков, как Леви-Строс, не будем дискутировать с ними по вопросу, философствуют ли дикари, ибо наука уже ответила на этот вопрос, и ответила отрицательно. Вот почему в глазах подавляющего большинства современных исследователей первобытного общества образ дикаря-философа не более, чем курьёз. Сомневающихся в справедливости такого отношения к этому образу отсылаю к работам Л. С. Выготского и А. Р. Лурии. Убедительную критику структуралистского подхода к изучению общинного сознания даёт, привлекая конкретный этнографический материал, В. Н. Романов. "Философия возникла около трёх тысяч лет назад в странах Древнего Востока", - считает "Краткий очерк истории философии", изданный в 1971 году. Под странами Древнего Востока имеются в виду Индия, Китай, Египет и Вавилон . При этом пальму первенства "Краткий очерк" отдаёт Индии и Китаю: рождение индийской философии он относит "примерно к середине I тысячелетия до н. э.", китайской - к VI - V вв. до н. э. Но не менее (а то и более!) древней представлена в "Очерке" философия древних греков: она возникла "на рубеже VII - VI вв. до н. э.". Поэтому странно, что античная Греция не вошла в список стран, в которых раньше, чем где бы то ни было ещё, появились философские учения. Должно быть, у создателей "Краткого очерка" не было единого мнения о том, какую из древних цивилизаций следует называть родиной философии. Другое дело - А. И. Ракитов. "Философия возникла в Древней Греции", - безапелляционно утверждает он . Так же считают изданные в Ростове-на-Дону "Философия" (2005 г.) и "Основы философии" (2007 г.): философию, сказано здесь, "изобрели" древние греки. "Древнегреческая философия, - заявляют Г. Г. Кириленко и Е. В. Шевцов, - общепринятый духовный исток современной философии, всей европейской культуры". Прогреческую точку зрения поддерживают и авторы "Введения в философию". По их мнению, Греция родила не только философскую, но ещё и научную мысль. А вот С. Р. Аблеев счёл за лучшее не выделять какую-то одну цивилизацию, подарившую миру философию. "Первые из известных оформленных философских учений появляются на рубеже VII и VI вв. до н. э. практически одновременно в трёх различных регионах: в Древней Индии, Древнем Китае и Древней Греции", - заявляет он. С точки зрения О. Г. Данильяна и В. М. Тараненко, таких регионов не три, а вдвое больше: к аблеевским добавлены Вавилон, Египет и - что весьма экстравагантно - Рим. |
||||
Большинство авторов учебной и справочной литературы относят появление философии к "осевому" времени. |
Отметим, что, несмотря на наличие разногласий, все процитированные мной после леви-стросовской книги источники - от "Краткого очерка" до учебника Данильяна и Тараненко - дружно привязывают возникновение философии к середине первого тысячелетия до нашей эры, к эпохе, которой К. Ясперс присвоил звучный титул "осевое время". По Ясперсу, именно в эту эпоху человек впервые осознал "бытие в целом, самого себя и свои границы", поставил перед собой "высшие цели", т.е. встал на путь философского познания мира. "Осевую" точку зрения на возникновение философии поддерживают философские словари. "Первые философские учения возникли 2500 лет назад", - утверждает ФЭС ("Философский энциклопедический словарь"). Ясперсовский, "осевой" подход к определению времени, в которое родилась философия, хотя и господствует в современной теоретической сфере, то и дело навевает сомнения, причём сомневаются в его безупречности даже некоторые "осевики". Например, Аблеев сразу после того, как показал себя сторонником "осевой" версии возникновения философии, поспешил сделать следующую оговорку: "Тем не менее есть основания предполагать, что истоки философии восходят к более ранним периодам истории индийской, египетской и вавилонской цивилизаций, в мифологических и предфилософских литературных источниках которых уже звучат определённые философские мотивы". Вот эти-то философские мотивы и надоумили авторов ростовской "Истории философии" вопреки сложившейся "осевой" традиции перенести возникновение философии в XV век до н. э. - в то время, когда, по мнению некоторых историков, в Индии появились Веды. В "Истории древнего мира" "религиозно-философское" содержание Вед относят к "осевому времени" , но и здесь, в рамках осторожного, тщательно сбалансированного, чуждого сенсационным заявлениям исследования древности, всё же допускают возникновение философии в более ранний период (в IX - VII вв. до н. э.), только не в Индии, а в Иране. Кто же прав? Где и когда родилась философия? Правда ли, что "возникновение нового, теоретического - философского - знания так и остаётся по сей день тайной за семью печатями", не допускающей достоверной реконструкции этого духовного процесса? 2. О мифах и мифологии |
||||
Для выяснения старторой точки философии требуется рассмотреть отношение мифологического и философского сознания. |
Научный поиск начала философии, её стартовой точки требует руководствоваться не только вопросами "где?" и "когда?", но ещё и не менее важными вопросами "откуда?" и "почему?". Чтобы грамотно ответить на все эти вопросы, необходимо, в частности, чётко и системно определить основные аспекты соотношения мифологического и философского сознания. Чего недостаёт современной теории при рассмотрении отношения мифология - философия, так это именно чёткости и системности. Возьмём для примера цитату из учебника Б. Н. Бессонова. "Как очевидно, сознание первобытных людей было мифологическим; подлинные знания переплетались с фантастическими образами. На уровне мифологического сознания человек не различает естественное и неестественное, реальное и нереальное. Поскольку первобытный человек абсолютно зависел от рода и окружающей природы, постольку он одушевлял, очеловечивал все явления природы и общества, наделял их вместе с тем высшей властью. Философия как таковая возникла на более высокой ступени общественного развития; её социальной предпосылкой явилось отделение умственного труда от физического, открывшее возможности для специальных занятий философией. Наряду с этим духовно-культурной предпосылкой философии стала возросшая сумма знаний, накопленных к тому времени об окружающем мире". |
||||
Слово "первобытный" имеет смысл "самый несовершенный, совершенно не готовый". По отношению к готовому предмету первобытное его состояние есть зародыш, совершенное отсутствие совершенства. |
Бессоновское объяснение перехода от мифологии к философии выполнено так поверхностно и неряшливо, что нуждается в серьёзных коррективах. В первую очередь надо уточнить, о каких людях идёт речь в начале цитаты. Судя по всему, о дикарях-общинниках. Но это не первобытные, а самые настоящие, полноценные в анатомическом смысле люди. Слово "первобытный" имеет смысл "самый несовершенный, совершенно не готовый". По отношению к готовому предмету первобытное его состояние есть исток, зародыш, совершенное отсутствие совершенства. Не случайно немецкое прилагательное "urspr?nglich", которым переводят русское прилагательное "первобытный", происходит от существительного "Ursprung", означающего "источник". Возражая мне, Бессонов может сослаться на С. И. Ожегова, который для слова "первобытный" даёт значение "относящийся к древнейшим эпохам истории человечества". Однако легко показать, что в словаре Ожегова это значение оказалось благодаря языковой и логической неграмотности исследователей древности. Увы, учёных и философов, путающих предысторию и историю, истоки предмета и сам предмет, до сих пор немало. Возьмём яркий пример. Как утверждает минская "Всемирная история", питекантроп - "наиболее древний из всех известных сейчас первобытный человек". Речь идёт о предках людей, поэтому выражение "первобытный человек" использовано здесь совершенно грамотно. Но применять это же выражение для человека современного типа, даже если он самый первый, палеолитический, некорректно. Тем не менее Homo Sapiens верхнего палеолита, согласно "Всемирной истории", - один из видов первобытных людей . За что же такая немилость? Только за то, что первые люди жили рядом со своими предками-неандертальцами? Неладно обстоит дело с использованием термина "первобытный человек" и в "Истории СССР" под редакцией В. В. Мавродина. Цитата №1: "Древние первобытные люди имели ещё много черт, унаследованных от человекообразных обезьян. От современных людей их отличали небольшой мозг, надбровный валик, отсутствие подбородочного выступа, выдающиеся вперёд зубы". Здесь первобытный (ещё не готовый) человек (по-английски - primitive man) чётко противопоставляется человеку современного типа, т.е. готовому человеку. А теперь - цитата №2: "Вторая ступень, когда впервые уже можно говорить о человеке и человеческом обществе в его начальной форме, - стадо первобытных людей". Помилуйте, но стадо первобытных людей - это ещё не группа людей, поэтому здесь нет ещё почвы для разговора о человеке и обществе! Порочная советская традиция неряшливо использовать слова при осмыслении глубокой древности отразилась и в трудах философа дореволюционной закалки А. Ф. Лосева. "Почему первобытный человек переносил на природу свои общинно-родовые отношения?" - такой вопрос поставлен в одном из его произведений, посвящённых античной мифологии. Вопрос некорректный, потому что только у готового человека (Homo Sapiens) бывают общинно-родовые отношения. Не стоит приписывать первобытным людям и какое бы то ни было мировоззрение, как это делает, к примеру, А. Н. Чумаков. Несмотря на изъяны в языковой культуре, свойственные многим исследователям предыстории и древнейшей истории человечества, в текстах, говорящих о Homo Sapiens, термин "первобытный человек" встречается гораздо реже, чем там, где пишут про антропогенез. Это, конечно, не случайно: язык повседневного быта давит на язык теоретической сферы, не давая ему становиться совершенно заумным, откровенно извращённым. Хуже ситуация с термином "человек": его то и дело применяют к существам, которые ещё не вышли на уровень человеческого бытия. Вот один из ярких примеров: "Небольшие изолированные группы людей … обеспечивали своё примитивное существование охотой на животных, птиц, пресмыкающихся, собирательством плодов, ягод, растений". Это сказано про питекантропов и схожих с ними предков человека, но названы они людьми. Кроме того, они якобы знали собирательство - человеческую, общинную форму деятельности. Насколько извращённым может быть теоретический язык, когда обсуждаются проблемы антропогенеза, можно судить по восхитительному образцу глубокомысленной бессмыслицы, взятому из книги Ю. И. Семёнова "На заре человеческой истории": "На наш взгляд, реальность бытия особой группы существ, находящейся между хабилисами, с одной стороны, и классическими питекантропами - с другой, вряд ли может быть с достаточным основанием оспорена... И эта группа представляет собой переход от поздних предлюдей, которые были животными, но уже изготовлявшими орудия, к существам, которые, бесспорно, являются хотя и формирующимися, но уже людьми. Тем самым существа, принадлежавшие к этой группе, представляют собой самое начало, самую раннюю стадию формирования человека, на которой специфически человеческие особенности только ещё начали складываться и поэтому сколько-нибудь отчётливо не обозначились. Этих самых ранних людей - прапралюдей можно было бы назвать ранними архантропами, или эоархантропами". Комментарии, я думаю, излишни. Из этой наукообразной галиматьи выделю лишь два ослепляющих паранойяльным блеском перла: "хотя и формирующиеся, но уже люди" и "самые ранние люди - прапралюди". |
||||
Необходимо различать мифическое и мифологическое, ибо первое имело место ещё в общинные времена, а второе появляется лишь в обществе. |
Вернёмся к цитате из Бессонова. Второй имеющийся в ней момент, который необходимо скорректировать, - характеристика общинного сознания. Бессонов убеждён, что оно мифологическое. На самом деле это не так, поскольку мифы в общине есть, но мифологии (учения о мифах) нет. Пора бы уж различать мифическое и мифологическое, ибо первое имело место ещё в общинные времена, а второе появляется лишь в обществе! Но нет - многие не различают, ибо не видят существенной разницы между общинной и общественной формами социальной жизни. "Мифологическое мировоззрение характерно для ранних стадий развития человека и связано с мифологией - особой формой духовной культуры, посредством которой происходит познание окружающего мира и регулирование социальных отношений", - заявляет С. Р. Аблеев , совершенно не отдавая себе отчёта в том, что на ранних стадиях развития человека, т.е. в первобытном обществе, никакой духовной культуры не было и не могло быть. Попутно отметим, что под первобытным обществом следует понимать лишь зачаточное общество, т.е. общину. Общинный и общественный коллективы (по-немецки - Gemeinschaft и Gesellschaft) противоположны по своему устройству, поэтому во избежание ошибок их необходимо строго различать. "…Можно сказать, что миф, выступая первой исторической формой целостного понимания мира на уровне первобытного сознания, был одним из важнейших источников философского знания и ряд особенностей мифологического сознания перешёл в философию, подвергшись определённой рациональной интерпретации", - утверждает В. В. Миронов , явно отождествляя миф и мифологию, а заодно смешивая первобытное (зачаточное), общинное (чувственно-образное) и общественное (понятийное) сознание. Следует подчеркнуть, что рациональной интерпретации мифы подвергаются уже в мифологии, т.е. ещё до появления философии. На это, в частности, указывает немецкий философ К. Хюбнер, проводя различие между мифическим и мифологическим. "Мифология, - пишет он, - относится к мифу так же, как схоластика к религии, или как современный так называемый сциентизм к науке" . Правда, по Хюбнеру, рациональность изначально свойственна как мифологии, так и мифу, но это потому, что рациональное немецкий философ понимает чрезвычайно широко. |
||||
Характерное для современной теории смешивание мифического и мифологического объясняется тем, что мифология в отрыве от мифов не существует. |
Увы, смешивание мифического и мифологического характерно для современной теоретической мысли. Этому есть объяснение: дело в том, что мифология в отрыве от мифов не существует. Она - рационализированная, сведённая в систему совокупность мифов, а не какое-то отдельное, находящееся рядом с ними учение. Вот почему нередко чрезвычайно трудно установить, где кончается мифическое и начинается мифологическое. Теперь рассмотрим третье некорректное утверждение Бессонова. Появление философской мысли он объясняет разделением труда на умственный и физический, но, во-первых, это разделение раньше, чем философию, породило мифологию, а во-вторых, ещё раньше оно породило нравственность - исходную форму общественного сознания. Высшим, теоретическим выражением последней и является мифология. Что касается философии, то она есть такое же выражение честности - правового сознания, возникающего вслед за нравственным. 3. Нравственный характер мифологии |
||||
До сих пор оспаривается тот факт, что мифология есть высшее воплощение нравственности. |
То, что мифология есть высшее воплощение нравственности, многие философы и учёные склонны оспаривать. При этом часто ссылаются на греческую мифологию, и в первую очередь - на поведение в ней богов. "От богов, как они изображены в "Илиаде", очевидно в духе эпической традиции, человеку не приходится ждать справедливости или утешения в жизненных горестях, - утверждает А. И. Зайцев, - они поглощены своими интересами и предстают перед нами существами с нравственным уровнем, соответствующим отнюдь не лучшим представителям человеческого рода". "…Реальная жизнь людей, - пишет А. Г. Спиркин, - тесно переплеталась с обитающими на Олимпе образами богов. Им приписывались даже человеческие пороки. Боги мыслились не только могущественными, но и капризными, зловредными, преисполненными мстительности. Люди переносили на богов самые причудливые сексуальные ориентации, приписывая им неуёмное любвеобилие, нескончаемые измены, любовные распри и т.п.". В том же духе преподносит греческих богов А. Боннар: "Первоначально эти боги были … лишены почти всякой морали. В своих прихотях и благодеяниях они оставались крайне непоследовательными" . А теперь - конкретней, развёрнуто: "Боги "Илиады" весьма равнодушны к распрям людей между собой, они существуют сами для себя, единственно для радости существования, а не для служения человеку и не в качестве "жандармов", стоящих на страже Добра. Они просто существуют. Так же, как и все прочие многообразные формы жизни, как реки, солнце, деревья, чей видимый смысл существования заключается как будто лишь в том, чтобы услаждать нас своей красотой. Боги свободны, но не по-нашему - свободой, с трудом отвоёванной у природы, но свободой, являющейся естественным даром природы. Нельзя не отметить, что в такого рода передаче судеб мира и человека на волю великих сил, не злостных, но аморальных и тёмных, не имеющих чётко определённой, пусть и постижимой, цели и для которых принцип причинности лишён всякого значения, есть что-то героическое. Следует согласиться с тем, что олимпийские боги, включая самого Зевса, не являются олицетворением нравственности, как на них ни смотри: современным ли, античным ли взглядом. Но не стоит утверждать, будто они почти или полностью аморальны. "…Миссия олимпийцев, - отмечает Л. И. Таруашвили, - состоит в налаживании, поддержании и защите мирового порядка. Их основная функция - сохраняющая. Смысл их существования в том, чтобы, господствуя над миром (который греки называли космосом, подразумевая под ним наипрекраснейшее и совершенное целое), не дать ему измениться или погибнуть. Они не склонны допускать перемен не только к худшему (так, Зевс низвергает Фаэтона, чтобы избегнуть всемирного пожара), но и к лучшему (тот же Зевс губит Асклепия, чтобы помешать ему сделать бессмертными людей)". Даже Спиркин, считающий олимпийских богов - главных и самых влиятельных персонажей греческой мифологии - капризными и зловредными, вынужден, противореча себе, констатировать, что мифы не только не поощряли капризы и зло, но, напротив, "утверждали лично и социально принятую в данном обществе значимую систему ценностей, которая поддерживала и санкционировала соответствующие нормы поведения, взаимоотношения людей и их отношение к миру". |
||||
Добро представлено в мифологии не в каком-то конкретном образе, а в образе существования мифологических богов и героев. |
Да, мифологические боги, как и герои, не обладают нравственным совершенством. Но это не значит, что мифология не служит добру, не является выражением нравственности. Добро представлено здесь не в каком-то конкретном образе, а в образе существования мифологических богов и героев: их души, как стрелка компаса, неизменно обращены в одну и ту же сторону - в сторону добра, и каким бы несовершенным, ущербным, даже преступным ни было их поведение в том или ином случае (а удивляться тут нечему, ибо у мифологии очень глубокие, общинные корни), оно всегда, при любых отклонениях, возвращается в рамки нравственного идеала. Это хорошо видно по образу действий персонажей гомеровского эпоса. Возьмём для примера четвёртую песнь "Илиады", спор Зевса и Геры. А. И. Зайцев считает, что, с нравственной точки зрения, оба участника конфликта ведут себя явно недостойно: "…Зевс угрожает Гере, ненавидящей троянцев, тем, что разрушит город людей, любезных ей, и Гера предлагает ему, если он того захочет, разрушить три самых любезных ей города - Аргос, Спарту и Микены - с их ни в чём не повинными жителями" . Однако взвешенный, непредвзятый разбор этого эпизода диктует совсем иную нравственную оценку поведения Зевса и Геры: в острой конфликтной ситуации, едва сдерживая напор разыгравшихся страстей, они стремятся разрешить спор не иначе как с позиций Добра. "Бессмертие Гомера, - справедливо отмечает А. Нейхардт, - заключается в том, что в его гениальных творениях заключены неисчерпаемые запасы общечеловеческих непреходящих ценностей - разума, доблести, добра и красоты" . С развитием мифологии её нравственное содержание становится всё более явственным. В Греции представление о богах как блюстителях морали, вполне отчётливо выступающее уже в творчестве Гомера (VIII в. до н. э.), в произведениях Гесиода (VII в. до н. э.) предстаёт в развёрнутом виде. В поэме последнего "Труды и дни" происходит смещение акцента с понятия добра на понятие чести. 4. Мифология - исходное теоретическое знание о мире |
||||
Современные исследователи древности любят оспаривать не только нравственный, но и теоретический характер мифологии. |
Современные исследователи древности любят оспаривать не только нравственный, но и теоретический характер мифологии. Теория, уверяет "Введение в философию", появляется лишь с переходом от мифологического познания к философскому: в этот период слово "философия" якобы воспринималось древними греками как "синоним зарождающейся теоретической мысли" . А вот что пишет А. А. Радугин: "…Мифологически-религиозное мировоззрение, носило духовно-практический характер. Исторические особенности этого мировоззрения связаны с низким уровнем освоения человеком действительности, зависимостью его от неосвоенных, непокорённых сил природы и общественного развития, а также с недостаточным развитием его познавательного аппарата. В этих условиях мировоззренческие конструкции вступали в социальное и индивидуальное взаимодействие в форме образов и символов. По мере развития человеческого общества, установления человеком определённых закономерностей, совершенствования познавательного аппарата появилась возможность новой формы освоения мировоззренческих проблем. Эта форма носит не только духовно-практический, но и теоретический характер. На смену образу и символу приходит Логос - разум" . Если вспомнить, что в широком смысле слова теория есть система предельно обобщённых, абстрагированных от практики положений, то от уверенности в дотеоретическом характере мифологии не останется и следа. Мифологическое знание - это именно теория, правда, в её начальной, простейшей форме, т.е. всего лишь комплекс понятий. Ни суждений, ни умозаключений здесь ещё нет, да и не может быть, ибо мифология служит лишь пониманию мира, а рассуждать о нём - вовсе не её дело. К тому же к пониманию мифологический текст ведёт явно неадекватным для развитой теории путём: не через термины, а через чувственные образы. Логическая неразвитость, наивность мифологии и вызывает сомнения в её непосредственной причастности к теоретическому познанию. "Сопоставляя мифологию с наукой и метафизикой, - пишет на эту тему Лосев, - мы говорим, что если те - исключительно логически-отвлечённы, то мифология во всяком случае противоположна им, что она чувственна, наглядна, непосредственно-жизненна и ощутима. Но значит ли это, что чувственное уже по одному тому, что оно чувственное, есть миф, и значит ли это, что в мифе нет ровно никакой отрешённости, ровно никакой хотя бы иерархийности? Не нужно долго всматриваться в природу мифического сознания, чтобы заметить, что в нём есть и его природе существенно свойственна некая отрешённость и некая иерархийность". |
||||
Абстрактность и системность образов обеспечивают мифологии, несмотря на всю её чувственность, статус теоретического, понятийного знания. |
Отрешённость (абстрактность) и иерархийность (системность) образов обеспечивают мифологии, несмотря на всю её чувственность, статус теоретического, понятийного знания. "…Мифологию, - подчёркивает М. Б. Туровский, - постоянно одолевает необходимость довести знание до разумения людей - слушателей сказаний, т.е. проблема понимания" . При этом "мифологическое мировоззрение заслуживает квалификации наивного, потому что оно непосредственно передоверяет квалификацию познавательной ценности знания авторитету перводеятелей" . Именно это и означает иметь духовно-практический характер. 5. От мифологии к философии В раннем обществе единственным духовным регулятором отношений между людьми была нравственность - простейшая форма общественного сознания, позволяющая оценивать мир в диапазоне добро - зло. Нравственную оценку осуществляет совесть, первый, старейший представитель общества в сознании личности: если совесть поощряет какой-то поступок, значит, он добрый, отвергает - злой. Таким образом, общественная оценка личностью своих и чужих поступков осуществляется здесь непосредственно, без предварительного анализа. Теоретическим выражением нравственности является мифология. |
||||
Усложнение социальной жизни потребовало дополнить нравственное регулирование общественных отношений правовым, а мифологическое знание - философским. |
Усложнение социальной жизни выявило серьёзные недостатки нравственного регулирования общественных отношений, голос совести показал способность вводить в заблуждение. Оказалось, что можно быть нравственно безупречным, совестливым - и приносить обществу вред. С другой стороны, выход за рамки нравственных предписаний всё чаще становился единственной возможностью преодолеть ту или иную общественную проблему. На уровне теоретического познания мира это означало кризис мифологии. Выяснилось, что кроме способности понимать требуется способность судить, т.е. соединять разнообразие понятий в единое целое. В условиях кризиса нравственности (нравственного сознания) появился ещё один духовный регулятор - честность (правовое сознание). С этих пор человек, живущий в обществе, должен учитывать не только голос совести, но и голос чести, что оказалось чрезвычайно сложным делом, ибо нравственность и честность противоположны друг другу: первая требует от личности доброты, т.е. непосредственно общественного поведения, вторая - правоты, т.е. общественного поведения, опосредованного нравственно неразрешимой проблемой. В Древней Греции коллизии, связанные с принципиальным несовпадением нравственности и честности, проявили себя в полную силу уже в VIII веке до н. э., о чём красноречиво свидетельствует гомеровский эпос. Вспомним сюжет "Илиады". Напряжение, постоянно сопровождавшее взаимоотношения предводителя самой сильной, мирмидонской дружины ахейского войска Ахилла и главы всего этого войска Агамемнона, обострилось до предела, когда на военном совете первый вынудил второго отказаться от пленницы и наложницы Хризеиды. Ахилл сделал это в общественных интересах, без каких-либо корыстных расчётов, но сделал так резко и грубо, что, не имея на то серьёзных оснований, публично обидел Агамемнона и тем самым внёс в ахейские умы пагубную смуту. В нравственном плане ситуация зашла в опасный тупик, ибо обе стороны конфликта в равной степени оказались олицетворением и добра, и зла. И тогда Агамемнон, чтобы погасить занимавшийся нравственный пожар, перевёл своё противостояние с Ахиллом в правовую плоскость: он заявил совету о своём праве компенсировать потерю Хризеиды Бризеидой - пленницей и наложницей Ахилла. В ответ на это Ахилл посчитал себя в праве не участвовать в военных действиях. Так вместо нравственного сознания за регулирование отношений в ахейском стане взялось сознание правовое, вместо совести заговорила честь. Однако это не погасило конфликт. Напротив, вмешательство чести усугубило его, вызвав нарушение нравственного баланса: уклоняясь от участия в битвах, Ахилл оказался единоличным виновником гибели своего лучшего друга и соратника. В результате, чтобы заглушить угрызения совести, т.е. вернуть своё поведение в русло высокой нравственности, предводитель мирмидонцев, не дожидаясь призывов со стороны Агамемнона и других ахейцев, отказался от своего права не воевать и вступил в битву с троянцами. И в "Илиаде", и в "Одиссее" Гомер, не отрицая необходимости быть честным, явно отдаёт предпочтение совести. Однако общественное развитие вело к усилению правового регулирования социальных отношений, заставляя древних теоретиков смещать акцент с понятия добра на понятие правды. Это смещение акцента заметно уже в мифологической поэме Гесиода "Труды и дни": здесь "начинают обосновываться этические идеалы, что гомеровским героям ещё не свойственно", т.е. автор предпринимает попытку показать правомерность нравственных принципов - правомерность того, что в раннем обществе никаких сомнений не вызывало. Так на смену мифологии приходит философия. Лекция третья 1. Философия Древнего Востока |
||||
По-видимому, философия появилась на Востоке в первой половине первого тысячелетия до н.э. |
Где и когда родилась философия? С большой степенью вероятности можно утверждать лишь то, что появилась она на Востоке в первой половине первого тысячелетия до н.э. В наше время этот ореол наиболее раннего философского знания привлекает внимание к буддизму, йоге, конфуцианству и другим восточным учениям не только специалистов, но и широких масс во всех регионах мира. Восточная философия стала модной. Казалось бы, что здесь плохого? Но отрицательная сторона у этой моды есть: предметом повального увлечения стала самая ранняя, незрелая философия человечества в ущерб более поздней, зрелой. Следует отметить, что восточная философия и в древности, и в средние века развивалась крайне медленно, в силу чего вплоть до Нового Времени сохранила многие черты раннефилософского знания. А в Новое Время это знание было радикально переработано на западный манер, что явилось результатом развития не столько восточной, сколько западной культуры. |
||||
Недостатки ранней философии проистекают из мощного влияния на неё мифологии. И главным из них является смешение чувственного отражения мира с рассудочным (рациональным). |
У ранней философии есть серьёзные недостатки, проистекающие из мощного влияния на неё мифологического способа познания мира. Рассмотрим их на примере буддизма и конфуцианства. Главным недостатком ранней философии является смешение чувственного отражения мира с рассудочным (рациональным). Ранние философы часто используют в качестве аргументов не суждения, т.е. логически выстроенные цепочки понятий, а сами понятия, облечённые в форму ярких чувственных образов - сравнений, метафор и т.п., что придает философской речи поэтический (художественный) характер. Древнейший буддийский текст "Дхаммапада" кишит такими поэтическими образами: "Трепещущую, дрожащую мысль, легко уязвимую и с трудом сдерживаемую, мудрец направляет, как лучник стрелу" (33), "Хорошо сказанное слово человека, который ему не следует, столь же бесплодно, как и прекрасный цветок с приятной окраской, но лишенный аромата" (51), "Строители каналов пускают воду, лучники подчиняют себе стрелу, плотники подчиняют себе дерево, мудрецы смиряют самих себя" (80). А вот, что говорил китайский философ Кун фу-цзы (Конфуций): "Правитель, положившийся на добродетель, подобен Полярной звезде, которая стоит на своем месте, а вокруг нее обращаются все другие звезды". Такие высказывания больше воздействуют на чувства, чем на рассудок, в то время как философ в отличие от художника не должен ставить чувства выше рассудка. |
||||
Смешение чувственности и рассудочности влечёт за собой и другие недостатки ранней философии: отсутствие системности и склонность к односторонней простоте. |
Смешение чувственности и рассудочности влечёт за собой еще один крупный недостаток - отсутствие системности, логической цельности. Типичный раннефилософский трактат представляет собой набор коротких высказываний, плохо связанных по содержанию и вширь (в плане соответствия теме), и вглубь (в плане развития мысли). Здесь нередко на смену одной темы совершенно неожиданно, немотивированно приходит другая, а глубокая, фундаментальная мысль мирно соседствует с мелкой, банальной. Характерный пример - "Лунь юй" ("Беседы и суждения") Конфуция. Мы читаем в седьмой главе: "Учитель говорил: - Я чувствую печаль, когда не улучшаются нравы, не уясняют то, что учат, а зная долг, не могут ему следовать и не способны устранить порок". А дальше, рядом: "Учитель на досуге имел спокойный и довольный вид". А еще дальше: "Учитель сокрушался: - Как опустился я! Уже давно не снится мне князь Чжоу!" Серьезным недостатком ранней философии является и склонность к чрезмерно простым, односторонним ответам на сложнейшие вопросы бытия. В этом плане показательно то, как древние учения Востока трактуют отношение общество - личность. |
||||
При рассмотрении отношения общество - личность в Древней Индии отдавали приоритет личности, а в Древнем Китае - обществу. |
Многие философы Древней Индии резко противопоставляли личную жизнь общественной, ставя при этом интересы личности выше интересов общества. По-видимому, этот явно односторонний подход к проблеме соотношения личного и общественного сформировался в духовной сфере в противовес тому, что имело место в материальном мире: сословная иерархия древнеиндийского общества жестко регламентировала свободу личности. Ярко выраженное индивидуалистическое решение философских вопросов предлагает буддизм - самое влиятельное древнеиндийское учение, создателем которого является принц Шакьямуни (VI веке до н.э.). В основе этого учения лежат "четыре благородных истины": жизнь полна страданий, причина страданий - желания, страдания можно прекратить, прекращение страданий обеспечивает правильная жизнь. Идеал буддиста - нирвана (состояние абсолютной отрешенности от внешнего мира). К нирване ведет аскетизм, т.е. путь радикального самоограничения. На этом пути возникает своеобразная буддийская иерархия: внизу - рядовые буддисты, выше - бодхисаттвы (просветленные, т.е. учителя, достигшие вершин познания, но из сострадания к ученикам не ушедшие в нирвану) и на самом верху - Будды (пробудившиеся, буддийские святые, в том числе Будда Шакьямуни). В философии Древнего Китая при решении проблемы общество - личность проявилась другая крайность. Например, конфуцианство подчеркивает необходимость служить государству, подчинить личные интересы интересам общества. 2. Милетская школа |
||||
В Древней Греции переход от мифологии к философии произошёл на рубеже VII - VI вв. до н.э. |
В Древней Греции переход от мифологии к философии произошёл на рубеже VII - VI вв. до н.э. Одним из первых греческих философов был Фалес, уроженец Милета - крупного торгового города на побережье Малой Азии, в Ионии. В центре его теоретических размышлений находилось первоначало (архе) - то, из чего возникло всё многообразие предметов и что составляет их вечную, неизменную основу. Основа мира должна быть абсолютно простым веществом (первовеществом), которое в силу своего присутствия повсюду постоянно напоминает о себе, воздействуя на органы чувств. Всё сущее, утверждал Фалес, произошло из воды, и уже в одном этом утверждении ярко проявилось принципиальное различие между мифологическим и философским подходами к исследованию мира: мифология сводит первоначало к наиболее древнему богу, т.е. к сверхъестественному субъекту исторического процесса, а философия заявляет, что мир начинается не с самого субъекта, а с его природы - с того, что составляет его вечную основу, определяет своими свойствами все его действия. Сдвиг теоретического внимания с субъекта на его природу объясняется разразившимся в раннем обществе кризисом нравственности. Этот кризис породил недоверие к мифологическим богам и героям как субъектам истории, т.е. свободным деятелям, на которых держится мир. |
||||
Философия - с тех пор, как она появилась, и по сей день - выясняет законность деятельности субъекта, т.е. занимается вопросами юриспруденции, теоретическим обоснованием правового сознания. |
Если для создателя мифологии сомневаться в субъективности богов и героев бессмысленно, ибо они на деле показали свою способность обустраивать мир по собственной воле, то для философа мифологические персонажи и все их дела нуждаются в проверке на реальность, на соответствие законам субъективного существования, которые вытекают из свойств единого для всех предметов первоначала. Философия - с тех пор, как она появилась, и по сей день - выясняет законность деятельности субъекта, т.е. занимается вопросами юриспруденции, теоретическим обоснованием правового сознания. Всякий философ - правовед, что, однако, не позволяет утверждать, будто всякий правовед - философ. За выбор в качестве первоначала воды - чувственно воспринимаемого вещества - советские историки философии причисляли Фалеса к материалистам. На самом же деле, вплоть до нового времени ни один философ не был материалистом или идеалистом. Да, Фалес заявлял, что мир состоит из воды, той самой жидкости, в материальном характере которой легко удостовериться, так как она постоянно рядом с человеком и, стало быть, постоянно доступна чувственному восприятию. Но для Фалеса материальность воды не противоречит её идеальности (нематериальности), ибо, как отмечает Диоген Лаэртский, весь мир он "считал одушевлённым и полным божеств". Фалес положил начало Милетской философской школе. Его ученик Анаксимандр, разделяя представление учителя о том, что в основе мира лежит первовещество, рассматривал последнее не как абсолютно простое, а как смесь, состоящую из четырёх элементарных стихий (огня, воды, воздуха и земли). Эта поправка была внесена в учение Фалеса для того, чтобы не возникало серьёзных проблем при объяснении пёстрого разнообразия наблюдаемого мира. Выясняя свойства первоначала, Анаксимандр установил, что оно должно быть беспредельным. В самом деле: если у первоначала изначально есть предел, то этот предел не оно само, а что-то другое, но другого не может быть, ибо изначально есть только первоначало. Исходя из этих соображений, ещё один милетский философ Анаксимен решил, что смесь четырёх стихий не годится для роли первоначала: последнее должно быть абсолютно простым веществом, иначе в самом себе оно имеет разное и, стало быть, само себя ограничивает, т.е. не является беспредельным. Но не годится и вода. По мнению Анаксимена, истинное первоначало - это воздух: он проще, чем вода, и легче заполняет любое пространство. |
||||
Милетскую школу завела в тупик неспособность её представителей грамотно описать открытое ими единство изменчивости и неизменности первоначала. |
Первоначало, как справедливо полагали все милетские мыслители, должно быть изменчивым, подвижным, непрерывно порождающим разнообразные предметы и в то же время неизменным, неподвижным, чтобы служить надёжным фундаментом, простой и беспредельной основой мира. Единство изменчивости и неизменности, обнаруженное Милетской школой в первоначале, завело её представителей в тупик: этот противоречивый образ совершенно не укладывался у них в головах, но заменить его на что-то другое никак не удавалось. 3. Гераклит Эфесский |
||||
Милетскому обездвиживанию первоначала, превращению его в абсолютно покоящийся фундамент мироздания Гераклит противопоставил образ первоогня. |
Попытку вывести философию из милетского тупика предпринял Гераклит из Эфеса - ещё одного крупного портового города в Ионии. Поскольку Эфес и Милет - почти соседи, Гераклит прекрасно знал милетскую философию, её достижения и проблемы. Он подметил самое слабое место Милетской школы: взгляды её представителей развивались в сторону обездвиживания первоначала, и тем самым оно теряло способность порождать, т.е. быть самостоятельным началом не только всего чувственно воспринимаемого мира, но и вообще чего бы то ни было. Милетскому обездвиживанию первоначала, превращению его в абсолютно покоящийся фундамент мироздания Гераклит энергично противопоставил образ первоогня: "Этот космос, один и тот же для всех, не создал никто из богов, никто из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живой огонь, мерно возгорающийся, мерно угасающий". Почему в гераклитовской философии ведущая роль отведена огню? Потому что он - единственная из элементарных стихий, которую при всей её простоте и вещественности нельзя мыслить неподвижной. "Протрите глаза и посмотрите на огонь! - как бы призывает милетских философов Гераклит. - Вот оно - то неизменное и изменчивое первоначало, которое показалось вам сомнительным! Вот она - противоречивая, но при этом очевидная основа мира". В отличие от милетцев, Гераклит не боится противоречий - напротив, он буквально купается в них, вдохновенно насыщает ими свою философскую речь: "Из всего - одно, из одного - всё", "мудрость в том, чтобы знать всё как одно", "враждебное находится в согласии с собой", "дважды тебе не войти в одну и ту же реку", "одно и то же в нас - живое и мёртвое, бодрствующее и спящее, молодое и старое", "бессмертные смертны, смертные бессмертны" и т.д. и т.п. Гераклит быстро обрёл широкое признание как незаурядный мыслитель, но прозвище получил отнюдь не лестное, даже несколько обидное - "Тёмный". Отчасти это объясняется невежеством и современников, и потомков эфесского философа. Даже сейчас глубина гераклитовского учения о мире доступна далеко не всем. Однако дело не только в невежестве других людей, ибо и сам Гераклит, философствуя, допустил серьёзные огрехи. И главной его ошибкой является абсолютизация движения. Эфесский философ настолько увлёкся изображением перетекания разнообразных противоположностей друг в друга, что в его картине мира всё сливается в единый поток, предстаёт в мутном, затемнённом свете. Эту расплывчатость последователи Гераклита довели до предела, что позволило Платону изобразить их в остросатирических тонах: "Прямо как стоит в их писании, они вечно несутся, а задержаться на предмете исследования или вопросе, спокойно и чинно отвечать или спрашивать менее всего им присуще. Скорее можно сказать, что это им и вовсе не свойственно - покоя для них не существует. А если ты кого-нибудь о чём-либо спросишь, то они обстреляют тебя, вытаскивая, как из колчана, одно загадочное речение за другим, и если ты захочешь уловить смысл сказанного, то на тебя обрушится то же, только в переиначенном виде, и ты с ними никогда ни к чему не придёшь. Да и между собою им это не удаётся, благо они вовсю остерегаются, как бы не оказалось чего-либо прочного в их рассуждениях или в их собственных душах…" |
||||
Гераклит вернул первоначалу активность, но при этом лишил его устойчивости. |
Решительно выступив против милетского движения в сторону абсолютного покоя, Гераклит вернул античной философии её исходное, фалесовское представление о первоначале как элементарной стихии, активно порождающей многообразие мира, но при этом лишил первичную стихию той устойчивости, которая делает её основой мироздания. Абсолютизация покоя сменилась абсолютизацией движения, одна крайность - другой. Философское осмысление первоначала снова оказалось в тупике. 4. Элейская школа |
||||
Парменид разработал учение о двух типах бытия, чтобы преодолеть тупиковую односторонность ионийских учений о мире. |
Гибельную для философии односторонность милетского и гераклитовского подходов к изображению первоначала одним из первых заметил Парменид из Элеи - греческого города в Италии. Чтобы преодолеть тупиковую односторонность ионийских размышлений о мире, он разработал учение о двух типах бытия. Философия, по убеждению Парменида, обязана тщательно изучать не только подлинное (достоверное) бытие, но и мнимое (сомнительное). Такое понимание задач философствования было ошеломляюще оригинальным, ибо ранее считалось само собой разумеющимся, что серьёзного философского внимания достойна лишь истина. Не менее оригинальным является изображение Парменидом как подлинного, так и мнимого бытия. Подлинное бытие, утверждает элейский философ, это - абсолютно плотный шар бесконечного диаметра, т.е. абсолютно единичное, абсолютно неподвижное и абсолютно однородное вещество. "…Подобные взгляды близки к безумию", - отмечает Аристотель, но выход за рамки здравого смысла нисколько не смущает Парменида, ибо, считает он, здравомыслие полезно лишь для мнимого бытия. Таковым, с его точки зрения, является повседневная практическая деятельность с её бесконечным разнообразием изменчивых вещей. |
||||
Характерное для элеатов противопоставление теории и практики возникло под давлением логики. |
Может показаться парадоксальным, но характерное для элеатов, т.е. для Парменида и его учеников, жёсткое противопоставление теории и практики, духовной и материальной деятельности возникло под давлением логики. Это отмечают все более или менее серьёзные комментаторы элейской философии. У Аристотеля свойственное элеатам стремление мыслить строго логически выражено так: "…Они говорили, что ничто из существующего не возникает и не уничтожается, так как возникающему необходимо возникать или из сущего, или из не-сущего, но ни то, ни другое невозможно: ведь сущее не возникает (ибо оно уже есть), а из не-сущего ничто не может возникнуть, ибо [при возникновении] что-нибудь да должно лежать в основе. Таким образом, последовательно умножая выводы, они стали утверждать, что многое не существует, а есть только само сущее". Интересно отметить, что собственные рассуждения Аристотеля на тему возникновения и уничтожения сущего, выполненные с явной оглядкой на обыденный здравый смысл, в логическом плане выглядят гораздо менее убедительно, чем рассуждения Парменида и его учеников. Благодаря логическому превосходству над оппонентами элейские философы, несмотря на очевидную практическую слабость их взглядов, в течение всей античной эпохи прочно удерживали влиятельные позиции в теоретической сфере. Более того, чувствуя себя очень уверенно, элеаты не только не уклонялись от философских споров, но, напротив, постоянно напрашивались на них, чтобы показать свою правоту. Особенно отличился в пропаганде элейской философии лучший ученик Парменида Зенон Элейский. В своих знаменитых апориях (парадоксах) он проявил себя блестящим мастером применения такого мощного логического средства убеждения, как доказательство от противного. В качестве примера возьмём апорию Зенона под названием "Стрела". Представь себе летящую стрелу, предлагает любому оппоненту элейский философ, и проверь, не есть ли её движение всего лишь иллюзия, порождённая твоим сознанием. Если стрела не иллюзорна, а материальна, то в данный момент времени она, как и всякая материальная вещь, занимает в пространстве определённое место, т.е. не движется, а покоится. Получилось противоречие: летящая стрела не летит. О чём оно говорит? Об ошибке в мышлении. И вызвало эту ошибку твоё представление о движении материальной стрелы. Следовательно, чтобы мыслить эту стрелу правильно (логично), нужно брать её неподвижной. Сходным образом можно доказать неподвижность всех материальных тел, а элейская философия как раз и настаивает на том, что материальное (подлинное) бытие вечно покоится. Своим дерзким вызовом здравому смыслу Парменид и его ученики так взбудоражили философский мир, что их трактовка бытия во второй половине V в. до н.э. оказалась в центре теоретических дискуссий, или, используя выражение Диогена Лаэртского, вызвала "больше всего шума" . В ходе этого бурного обсуждения очень быстро, как грибы после дождя, возникли новые философские школы, и прежде всего - школа атомизма. 5. Древние атомисты |
||||
Основоположник древнего атомизма Левкипп предложил делить бытие на полное (сущее) и пустое (не-сущее). |
Основоположник древнего атомизма Левкипп был слушателем Зенона Элейского, но элеатом не стал. Его не устроило характерное для элейской теории пренебрежительное отношение к практическому опыту, к чувственному восприятию вещей, и в результате критического анализа этой теории он сделал справедливый вывод, что делить бытие на типы в духе Парменида, т.е. отождествляя подлинное с умозрительным, а мнимое - с чувственным, неразумно, ибо очень часто умозрительное бывает ложным, а чувственное - истинным. Значит, бытие следует мыслить иначе. Но как? И в левкипповской голове родилась гениальная идея: его нужно делить на полное (сущее) и пустое (не-сущее). Ученик Левкиппа Демокрит развил эту идею в детально разработанное атомистическое мировоззрение. Согласно философии Левкиппа и Демокрита, Вселенная заполнена атомами (мельчайшими неделимыми частицами вещества), постоянно движущимися в пустоте. Соединяясь и разъединяясь, эти частицы вызывают возникновение и исчезновение вещей, причём к последним, помимо материальных предметов, следует причислять и нематериальные (сознание и мысли). Многообразие вещей, утверждает древний атомизм, объясняется различиями в форме, порядке и положении атомов . Главной заслугой Левкиппа и Демокрита принято считать объяснение всего, что происходит в мире, через движение неделимых и неуничтожимых частиц вещества. При этом, как правило, забывают о пустоте, а зря: без неё вместе с подвижностью элементарных частиц исчезло бы и само их существование. Поэтому, отмечает Аристотель, философы-атомисты "говорят, что сущее существует нисколько не больше, чем не-сущее". Аристотелю такой подход не нравится, ибо Демокрит "утверждает, что пустое и полное одинаково имеются в любой частице, хотя, по его словам, одно из них есть сущее, а другое - не-сущее. …Одно и то же может вместе быть и сущим и не-сущим, но только не в одном и том же отношении". Интересно, что с этой жёсткой критикой атомизма, не оставляющей за ним права на статус истинной теории бытия, полностью солидарны современные физики - учёные, любящие вспоминать Демокрита как своего великого предшественника в деле изучения природы. Но, поддерживая Аристотеля в том, что отождествление сущего и не-сущего абсолютно недопустимо, придётся присоединиться и к такой его атаке на философию атомистов: "А кроме того, мы потребуем от этих людей признать, что среди существующего имеется и некая другого рода сущность, которой вообще не присуще ни движение, ни уничтожение, ни возникновение". Так боязнь противоречий приводит к представлению о сверхъестественной, вечной и неподвижной, основе мира, т.е. заставляет уходить из науки в мистику. |
||||
Главная ценность античного атомизма не в описании мира с помощью атомов, а в представлении о вещественном мире как вечно двоящемся, вечно переходящем от пустоты к полноте и обратно. |
Главная ценность античного атомизма не в описании мира с помощью атомов (уже в древности в этом описании находили много странного и наивного), а в представлении о вещественном, чувственно воспринимаемом мире как вечно двоящемся, вечно переходящем от пустоты к полноте и обратно. Но даже сейчас эта точка зрения не получила должного признания в теоретической сфере. В таком положении вещей есть вина и древних атомистов, поскольку о подвижной двойственности (дуальности) материального мира они говорили не очень внятно и последовательно. У них получалось, что материя сводится к паре переходящих друг в друга начал (к полноте и пустоте) лишь логически (теоретически), на деле же (практически) она не изменчиво дуальна, а неизменно плюральна (множественна), ибо атомов всегда много и, соответственно, всегда много пустот. Здесь, как и в учении Парменида, возникает разрыв между теоретической и практической точками зрения: первая требует видеть мир как единый, хоть и двоящийся, вторая же - как дробный, как совокупность не зависящих друг от друга частей. В результате попытка древних атомистов преодолеть свойственную элейской философии пропасть между теорией и практикой, логикой и чувственным восприятием оказалась не очень удачной. 6. Диалектика софизма |
||||
Элейская философия, доказывая недостоверность практических знаний, породила представление об их конвенциональности, ставшее краеугольным камнем в фундаменте софизма. |
Элейская философия, доказывая недостоверность, сомнительность практических знаний, породила представление об их конвенциональности (условности), ставшее краеугольным камнем в фундаменте софизма - философского течения, основы которого заложил философ Протагор. Как утверждает Диоген Лаэртский, "он первый заявил, что о всяком предмете можно сказать двояко и противоположным образом". Ему же принадлежит чеканная формулировка главного принципа софизма: "Человек есть мера всем вещам - существованию существующих и несуществованию несуществующих". Этот великий гуманистический принцип, несмотря на многочисленные попытки его дискредитации, дошёл до наших дней, нисколько не потускнев. Суровую проверку, которую устроило ему многовековое развитие теоретического знания, он выдержал с честью, чего не скажешь о софизме. Дело в том, что софисты, в том числе и Протагор, понимали человека слишком просто: как конкретное, единичное существо. И если такой человек является мерой всем вещам, то получается, что каждая личность вправе совершенно самостоятельно, без оглядки на других лиц и общество в целом, определять ценность всего, что есть в мире, и, исходя из этого единоличного определения, строить всю свою жизнь. |
||||
Софизм крайне противоречив: с одной стороны он способствует развитию личности, с другой - вызывает её деградацию. |
Утверждая право любого человека на полную самостоятельность в организации своего внутреннего и внешнего существования, софисты действовали крайне противоречиво: с одной стороны, их социальная роль была положительной, ибо, раскрепощая личность, делая её более самостоятельной, инициативной, они способствовали развитию и личной, и общественной жизни людей, с другой стороны, социальную роль софистов следует признать отрицательной, ибо, игнорируя обязанности личности по отношению к обществу, они создавали теоретическую почву для её произвола, разнузданного, антиобщественного поведения. Как положительная, так и отрицательная роль софистов проявилась прежде всего в юридической сфере. С бурным развитием в V в. до н.э. античной демократии от граждан потребовалось умение защищать свои права в ходе публичного судебного разбирательства, а чтобы приобрести такое умение, нужно было освоить диалектику - искусство вести диалог. Этому искусству учили философы, и именно те из них, кто посвятил свою жизнь обучению диалектическим приёмам общения всех желающих (а таких становилось всё больше), породили новое течение философской мысли, получившее имя "софизм". Тем самым софизм способствовал распространению правовой культуры, но здесь была и отрицательная сторона: софисты обучали искусству публичного спора за деньги, и потому не гнушались приобщать к своим знаниям даже откровенных негодяев - лишь бы те оплатили обучение. В результате на суде всё чаще стали возникать такие крайне опасные для общества ситуации, когда заведомый преступник, пользуясь приобретённым у софистов искусством спора, уходил от ответственности за своё преступление. Софисты развращали как окружающих, так и самих себя, игнорируя при этом не только фундаментальные принципы общественного поведения, но и принципы философствования. Им нравилось представляться софистами (слово "софист" буквально означает "мудрец"), в то время как философия требует видеть в мудрости постоянно ускользающий идеал и, значит, запрещает считать её раз и навсегда достигнутой. Именно из среды софистов вышли первые философы, которые так низко пали, что стали толковать философию не иначе, как выгодное предприятие, средство личного обогащения. Лекция четвёртая 1. Сократ как основоположник классической философии древности Из солидного учения софизм быстро превратился в бессовестную и бесчестную болтовню, дискредитирующую теоретическое исследование мира. Нужно было осадить зарвавшихся софистов, показать несостоятельность их беспринципной диалектики. Одним из первых взялся за это афинянин Сократ (369 - 399 до н.э.). |
||||
Беспринципной диалектике софизма Сократ противопоставил диалектику, ведущую к добру и правде. |
Свойственному софистам хитроумному жонглированию словами и мыслями Сократ противопоставил диалектику, помогающую приобретать не мнение, а то, что гораздо надёжней и потому полезней, - знание. Последнее, как утверждал афинский философ, представляет собой единство блага (добра) и правды. Такое понимание знания называют этическим рационализмом. |
||||
Философия, по Сократу, должна быть эвдемонистической. |
Поскольку, по Сократу, человек не может не познавать мир, а правильное, т.е. философское, познание ведёт не только к правде, но и к благу, постольку философия должна придерживаться эвдемонизма - той точки зрения, согласно которой человеку свойственно стремление к блаженству. Своё диалектическое искусство Сократ сравнивал с повивальным (с майевтикой), ибо знание, как и ребёнок, рождается в муках, и, чтобы роды прошли нормально, нужна грамотная помощь. |
||||
Суть поворота, осуществлённого Сократом в древней философии, описывают, как правило, неверно. |
Теоретическую деятельность Сократа часто - и вполне справедливо - считают поворотным пунктом в развитии античной философии, но суть поворота, осуществлённого афинским мыслителем, описывают, как правило, неточно, а иногда и просто ошибочно. О. Г. Данильян и В. М. Тараненко подчёркивают, что, с точки зрения Сократа, "основная задача познания не теоретическая, а практическая - искусство жить". Может, в этом и состоит специфика сократовской философии? Вовсе нет: поскольку предмет философии - мудрость как жизненно необходимая способность (а именно такой предмет изучения предполагает само слово "философия"), любой философ, чтобы быть философом, обязан не столько разрабатывать теорию, сколько учиться жить, как подобает мудрецу. "Неоценимая заслуга Сократа, - пишет А. Г. Спиркин, - состоит в том, что в его практике диалог стал основным методом нахождения истины. Если прежде принципы просто постулировались, то Сократ критически и всесторонне обсуждал всевозможные подходы. Его антидогматизм выражался, в частности, в отказе от претензий на обладание достоверным знанием". |
||||
Сократ был первым философом, который формировал свои взгляды диалектически - в диалоге, в беседах и спорах с самыми разными людьми. |
Действительно, Сократ был первым философом, который формировал свои взгляды в диалоге, в беседах и спорах с самыми разными людьми. Отсюда - ненасытная жажда общения и безмерное уважение к любому, кто, как и он, ищет истину. Вот прекрасная иллюстрация: когда Эсхин, желая стать учеником Сократа, сказал ему: "Я беден, ничего другого у меня нет, так возьми же меня самого", философ воскликнул: "Разве ты не понимаешь, что нет подарка дороже?!" |
||||
Когда новаторство Сократа связывают с антидогматизмом его философии, забывают, что ещё антидогматичней, чем она, была возникшая раньше философия софистов. |
Однако, согласно Спиркину, главная ценность диалога не в том, что он помогает прийти к истине, а в том, что он не допускает догматизма. Получается, что новизна сократовской философии как раз и состоит в её принципиальном антидогматизме. Ну, а как же софизм? Разве он не антидогматичен? "Софисты, - уточняет свою позицию Спиркин, - претендовали на всезнание, а Сократ твердил: он знает только то, что он ничего не знает". Однако софисты любое знание о мире (в том числе и знание о невозможности знания) сводили к мнению, а Сократ говорил именно о знании, а не о мнении, утверждая, что ничего не знает. Значит, его ничегонезнание догматичнее софистического всезнания, и не случайно трагическая смерть Сократа вызывает ассоциации со смертью Иисуса Христа - библейского основоположника христианских догматов. Косвенным образом догматичность сократовской философии признаёт и Спиркин, характеризуя афинского философа как "провозвестника идеи единого личного Бога, т.е. монотеизма". |
||||
Новизну сократовской философии не стоит связывать и с поиском объективной истины, ибо на самом деле Сократ искал не объективную, а подлинно субъективную истину. |
Ростовская "История философии" считает главной особенностью сократовских размышлений о мире поиск объективной истины: "Софисты развивают субъективизм и конвенционализм (истина по соглашению). Сократ же стремится найти объективную истину и справедливость". Сходным образом изображает афинского философа С. Р. Аблеев: Сократ, утверждает он, "стремится показать, что человеческое сознание неоднородно: в нём есть сфера субъективного, с которой связано мнение, и сфера объективного, с которой соотносится знание". Казалось бы, ход мысли строго логичный: поскольку софисты - субъективисты, то критиковавший их за это самое Сократ не кто иной, как сторонник объективной истины. Однако дело гораздо сложнее, ибо древней философии неизвестно субъект-объектное отношение, расщепление мира на субъект и объект ещё не состоялось. В своей критике софизма Сократ выступает с позиций подлинно субъективной, а не объективной истины, т.е. истины, на деле, а не на словах, соответствующей интересам субъекта - самостоятельного, свободного творца. При этом афинский философ страстно изобличает субъективистскую, мнимо субъективную, истину, которой обучают нечистые на руку софисты и которая представляет собой иллюзорную свободу ловкого угодника-приспособленца. |
||||
Поворот, осуществлённый Сократом в теоретической сфере, - это возвращение философии к нравственной проблематике. |
Поворот, осуществлённый Сократом в теоретической сфере, - это возвращение на новом уровне познания к той нравственной проблематике, которой занималась мифология и которую философия, формируя свой собственный, немифологический стиль исследования мира, пыталась игнорировать. Когда игнорирование нравственных проблем поставило под угрозу само существование философии, тогда и появилась сократовская идея о том, что нравственности присуще долженствование, а долгу - нравственность, и, стало быть, добро правдиво, а правда добра. Но утвердить единство нравственности и долга, добра и правды не на словах, а на деле, оказалось гораздо труднее, чем представлял себе Сократ. Достижение этого единства означало бы появление в реальности идеальной личности, личности-субъекта, человека, свободно творящего свой мир. К концу жизни Сократу стало казаться, что он и есть такая личность, личность, равная по свободе действий богам, что ему удалось стать воплощением идеала, живым образцом правдивого добра и доброй правды, но его трагическая гибель наглядно показала, как жестоко он ошибался. Его философия оказалась предметом судебного разбирательства, и именно за философскую деятельность, а не за что-то ещё, афинский суд с соблюдением всех демократических правил приговорил Сократа к смерти. В 399 г. до н.э., выполняя приговор, философ принял яд. Такой конец не был случайностью. Даже Афинам, самой демократической стране древности, не нужны были граждане, которые строят своё поведение только на основании личного выбора, не признавая законность общественного принуждения, а именно таких граждан воспитывал афинский мудрец-диалектик. "Сократ пытался найти в самом сознании человека такую прочную и твёрдую опору, на которой могло бы стоять здание нравственности, права и государства после того, как старый - традиционный - фундамент был уже подточен индивидуалистической критикой софистов. Но Сократа не поняли и не приняли ни софисты-новаторы, ни традиционалисты-консерваторы: софисты увидели в Сократе "моралиста" и "возродителя устоев", а защитники традиций - "нигилиста" и разрушителя авторитетов". 2. Эвдемонизм Платона |
||||
После смерти Сократа его ученики создали собственные школы эвдемонизма. |
После смерти Сократа остались его ученики, наиболее способные из которых создали собственные школы эвдемонизма. Антисфен основал школу киников, Аристипп - киренаиков. Если киники продолжили аскетическую линию сократовской философии, выступая за минимизацию потребностей и максимальную простоту их удовлетворения, т.е. за развитие духовности в ущерб чувственности, то киренаики, напротив, подхватили стремление Сократа к разнообразию впечатлений, разрабатывая всевозможные способы получения и продления наслаждения, главным образом телесного, и тем самым явно предпочитая чувственное духовному. Обе эти школы в силу их односторонности довольно скоро зачахли. |
||||
В учении Платона мир вечных идей-идеалов формирует пассивную и изменчивую материю. Поэтому материальный человек рассматривается как жалкая копия идеального. |
Гораздо удачнее сложилась судьба учения, которое разработал Платон - самый талантливый ученик Сократа. Прекрасно владея диалектикой учителя, Платон, однако, проявил явную склонность к метафизике - философии, направленный на поиск абсолютных истин. Сократовская философия насквозь диалектична: она родилась и развивалась в беседах. "Сократ не находит цель познания в готовом виде", - подчёркивает Б. Т. Григорьян. А в платонизме такая цель возникает - в виде грандиозной пирамиды вечных идей-идеалов, управляющих изменчивым материальным миром. "Живая человеческая душа Сократа с её устремлённостью к лучшему и высшему у Платона лишается ее жизненных истоков, творческих порывов, становится безличным выражением предданных абсолютных начал". Платоновский идеальный человек жестко противостоит материальному. Последнего философ рассматривал как жалкую копию идеи, как материал для социальных опытов по воплощению идеалов, а потому описывал подчеркнуто пренебрежительно. Однажды он отозвался о нем так: "Человек есть животное о двух ногах, лишенное перьев". Когда киник Диоген Синопский показал, что под это определение подпадает даже ощипанный петух, автор дефиниции отреагировал хладнокровно, ограничившись коротким дополнением к ней: "И с широкими ногтями". Как видим, в данном определении фигурируют лишь внешние признаки, и этот нарочито поверхностный его характер не является случайным: согласно Платону, материальный человек - временное воплощение идеи, внешнее ее тело, не представляющее особого интереса. Пристального внимания заслуживает разве что заключенная в теле душа, да и то только в той мере, в какой она поддерживает связь с миром идей, стараясь подражать им. Только в подражании идеям проявляется, по Платону, социальная специфика человека. |
||||
Если сократовский человек - творец, то платоновский - всего лишь мим, подражатель. |
Люди у Платона перестают быть творцами: философ отказывает им в способности самостоятельно создавать какие-либо блага. Расколу мира на идеальный и материальный соответствует здесь раздвоение человека на душу и тело, внутреннее и внешнее, высшее и низшее. Этот психофизический дуализм позднее превратился в основополагающую идею всех без исключения христианских трактовок человека и его места в мире - трактовок, пережитки которых не преодолены до сих пор. Итак, сократовский человек - творец, платоновский - мим, подражатель. Почему же так резко разошлись философские взгляды учителя и ученика по данной проблеме? Оба исходят из того, что все люди, испытывая потребность в удовольствии, так или иначе стремятся к благу. Добывая его, утверждает Сократ, они обретают и правду . Труд мыслителя при этом отличается от труда ремесленника, врачевателя или воина только своим продуктом: у первого добываемое благо носит идеальный, у второго - материальный характер. Сократ не проводит резкой границы между умственным и физическим трудом, не ставит представителей того и другого на разные общественные ступени. О ярко выраженной демократичности его антропологической позиции говорит и сравнение им своего диалектического искусства с повивальным. Вообще, учитель стоял гораздо ближе к демосу, чем его высокомерный ученик, привыкший к аристократической среде. В поисках истины Сократ не гнушался вступать в диалог с любым членом афинского полиса, причем никогда не навязывал собеседнику какое-то готовое мнение. Подобно простому ремесленнику, способному создавать блага в процессе самой деятельности, без предварительного выдвижения идей, этот народный мудрец формировал общий взгляд на ту или иную проблему в процессе самого ее обсуждения. По-другому подходит к делу заносчивый Платон. Он обращает внимание на то, что обсуждаемая в разговоре идея присутствует в нем - пусть и в смутном, туманном виде - с самого начала. Значит, она не создается собеседниками, а лишь уточняется ими, извне направляя течение разговора в нужное русло. В физическом труде мы наблюдаем то же самое. Ремесленник только в том случае может рассматриваться как подлинный творец, если сам создает благо. Но, руководствуясь идеей блага, он не создает его, а лишь пытается воспроизвести идеальный образец, т. е. подражает идеалу. Если же у ремесленника нет хотя бы смутной идеи блага, то, согласно Платону, создать его он может лишь случайно, а значит, опять же не может считаться подлинным творцом. Как утверждал Сократ, люди неизменно стремятся к удовольствию, испытывая его только тогда, когда удалось получить какое-то благо. Обретя благо в полной мере, человек достигает счастья. При этом выходит, что к счастью толкает потребность в удовольствии. Она свойственна любой человеческой душе, а откуда возникает в ней и чем отличается от соответствующей потребности животных, Сократ докапываться не стал - видимо, не посчитал нужным. |
||||
Платон первым из философов обратил внимание на то, что человеку, живущему в обществе, нужно не простое, а идеальное благо, обладание которым и есть счастье. |
Этим важным антропологическим вопросом живо заинтересовался Платон. Человеку, подчеркивает он, требуется не просто удовольствие, а высшее удовольствие. Оно-то и есть счастье. Для его достижения необходимо высшее, идеальное благо. Следовательно, делает вывод Платон, потребность в счастье - это потребность души приобщиться к внешнему для нее миру идей-идеалов. 3. Деятельностная философия Аристотеля |
||||
Платонизм уводит философию от живого, конкретного бытия людей к бесплотному, абстрактному бытию социальных форм, и, чтобы вернуть ее на землю, ученик Платона Аристотель взялся за анализ дела. |
Платонизм уводит философию от живого, конкретного бытия людей к бесплотному, абстрактному бытию социальных форм, и, чтобы вернуть ее на землю, лучший ученик Платона, великий систематизатор древнего знания Аристотель Стагирит берётся за выработку нового, оригинального подхода к определению счастья. "Может быть, это получится, - размышляет он, - если принять во внимание назначение человека, ибо, подобно тому как у флейтиста, ваятеля и всякого мастера да и вообще [у тех], у кого есть определенное назначение и занятие, собственно благо и совершенство заключены в их деле, точно так, по-видимому, и у человека [вообще], если только для него существует [определенное] назначение. Но возможно ли, чтобы у плотника и башмачника было определенное назначение и занятие, а у человека не было бы никакого, и чтобы он по природе был бездельник?". Данный перевод фрагмента из "Никомаховой этики" имеет существенный изъян: аристотелевский термин "эргон" подается здесь то как "назначение", то как "дело", причем чаще - как "назначение". Такой ничем не оправданный разнобой затемняет рассуждение Стагирита, мистифицирует его мысль, и, чтобы правильно понять ее, "эргон" везде следует читать как "дело". Именно это значение является основным. Заглянув, к примеру, в греческо-русский словарь А. Вейсмана , каждый может убедиться, что так оно и есть. "Назначение" же вообще не приводится Вейсманом в качестве одного из возможных заменителей слова "эргон". |
||||
Опираясь на понятие дела, Аристотель определяет счастье как "деятельность души в полноте добродетели", т.е. как осуществление наилучшим образом каких-либо дел. |
Опираясь на понятие дела, Аристотель определяет счастье как "деятельность души в полноте добродетели", т.е. как осуществление наилучшим образом каких-либо дел. Такая деятельность свойственна добропорядочным людям, жизнь которых "ничуть не нуждается в удовольствии, словно в каком-то приукрашивании, но содержит удовольствие в самой себе. К сказанному надо добавить: не является добродетельным тот, кто не радуется прекрасным поступкам, ибо и правосудным никто не назвал бы человека, который не радуется правому, а щедрым - того, кто не радуется щедрым поступкам, подобным образом - и в других случаях. А если так, то поступки, сообразные добродетели, будут доставлять удовольствие сами по себе". "Далее, - продолжает рассуждать о счастье великий античный философ, - всякая добродетель и возникает и уничтожается... Играя на кифаре, становятся и добрыми и худыми кифаристами, и соответственно - [добрыми и худыми] зодчими и всеми другими мастерами, ибо, хорошо строя дома, станут добрыми зодчими, а строя худо - худыми. Будь это не так, не было бы нужды в обучении, а все так бы и рождались добрыми или худыми [мастерами]. Взятые из "Никомаховой этики" цитаты красноречиво свидетельствуют об оригинальности социальных взглядов Аристотеля по сравнению с соответствующими взглядами Сократа и Платона, об оригинальности, позволившей не только сгладить враждебную противоположность креативности и мимичности (подражательности), но и открыть новые горизонты в области изучения человека. Оригинальность, о которой идет речь, заключена в категории "дело" ("эргон"), занявшей видное место в антропологии Стагирита. Именно с рассуждений о "деле", почувствовав фундаментальный характер этого понятия для социальной теории, начинает автор "Никомаховой этики" свое, новаторское определение счастья - того, что выражает человеческую сущность. Новаторскую роль Аристотеля в античной антропологии подробно рассматривает О. М. Ноговицын. "Очевидно, что перед нами совершенно новый подход к человеку вообще, - отмечает он. - До сих пор движущей силой и, следовательно, сущностью человека считались потребности. И, соответственно, благом или счастьем для человека считалось их удовлетворение". При такой антропологической позиции люди в своем поведении уподобляются животным. Получается, что, как и другими живыми существами, человеком жестко управляет природа - через комплекс заложенных в организм потребностей. Наличие среди них специфических по существу ничего не меняет: Homo Sapiens, подобно какой-нибудь букашке, остается марионеткой в руках природы. "И вот, - переходит к характеристике нового антропологического подхода Ноговицын, - Аристотель обнаруживает в человеке совершенно иной источник действия и иную сущность... Потребность заинтересована в результате, сам процесс деятельности, ведущий к нему, для нее безразличен. Удовольствие и страдание при удовлетворении потребностей связаны только с результатом. А в данном случае источником действия человека является вовсе не потребность, а ... те силы, которые заключены в нем и естественным образом должны реализоваться. И удовольствие человек получает не от результата, а от самой этой реализации..." . Автор данного анализа, сбитый с толку ущербным переводом "Никомаховой этики", очень часто, к сожалению, злоупотребляет рассуждениями о назначении, искажая тем самым позицию Стагирита, и поэтому соответствующие места пришлось опустить. |
||||
Своеобразие этики Аристотеля в том, что она имеет деятельностный характер. |
"Этика Аристотеля представляет собой вершину античной этики и в то же время коренной поворот, открывающий новые перспективы в осмыслении человека", - справедливо утверждает О. Ноговицын. В чем суть данного поворота? В том, что Стагирит в основу своего антропологического учения положил понятие самореализации. А осуществляется она в деле. Именно дело представляет собой основу свободной деятельности, основу творчества. |
||||
В основе всей аристотелевской философии лежит понятие дела. |
Аристотель применил свой деятельностный подход, возникший в процессе осмысления социальной сферы, к исследованию мира вообще. Учение о четырёх видах причин, существующих в природе, Стагирит создал, анализируя деятельность ремесленников. Например, гончару для изготовления чаши нужно иметь в голове её образ, идею, форму (формальная причина), а под руками - подходящую глину, материал (материальная причина), нужно обладать гончарными навыками, т.е. способностью к гончарным действиям, (действующая причина) и, наконец, нужно иметь цель (идеал), т.е. предвосхищать конечный результат, готовый полезный предмет (целевая причина). Мы видим, что в отличие от философии Платона в философии Аристотеля, во-первых, понятия идеи и идеала оказались разными, ибо Стагирит понимает идею (форму) не как платоновскую идеальную вещь, существующую независимо от её материального воплощения, а как всего лишь возможную вещь, становящуюся действительной лишь в соединении с материей, а во-вторых, идея и идеал включены в процесс деятельности как её необходимые моменты. Однако деятельность Аристотель рассматривал слишком абстрактно и односторонне - как то, что присуще представителю полиса. Поэтому и человек у него - это полисное (или, как чаще говорят, опираясь на менее точный перевод, политическое) животное . В таком случае люди, живущие за рамками полисной (политической) организации, становятся неполноценными людьми. Кроме того, примеры дел Стагирит, как мы видели, черпает исключительно из городской жизни, вольно или невольно превращая сельские виды деятельности в менее характерные для человека, а сельского жителя - в человека второго сорта. Таким образом, уже в древности ярко проявилась тенденция, рассуждая о социальной жизни, отвлекаться от некоторых видов сугубо человеческой деятельности. Продолжение следует. |
||||
|